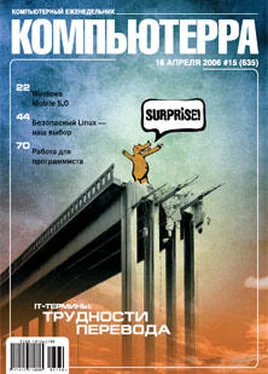Получается, что англоязычным специалистам дает преимущество тот факт, что почти все компьютерные термины рождаются в родной для них языковой среде. Во всяком случае, если речь идет о новорожденных метафорических терминах: за ними тянется пучок ассоциаций, связанных с материнским словом. Пока эта пуповина питает неологизм метафорическими смыслами, она служит подсказкой к пониманию его нового значения. Только со временем, в ходе словоупотребления, эта связь постепенно слабеет и в конце концов утрачивается, и тогда это преимущество исчезает. Так, термин bug, которому уже более полувека[Если верить Википедии, то историческая роль мотылька, застрявшего в реле компьютера Mark-II в сентябре 1945 г. и давшего имя понятию «программная ошибка», сильно преувеличена. Слово bug в смысле неисправность (правда, аппаратная) употреблял еще Эдисон в позапрошлом веке], означает одно и то же для программистов всех национальностей. Русскоязычный может и не знать, что bug — это еще и насекомое, а англоязычному может казаться, что он имеет дело просто с омонимами. А может и не казаться — это ничего не меняет в понимании термина.
Мне могут возразить, что значение термина однозначно фиксируется в его определении и метафорические значения здесь ни при чем. Но дело в том, что мыслим мы не словами и не их значениями, а образами и понятиями. Смысл понятия далеко не исчерпывается определением соответствующего термина, он раскрывается полностью только в контексте его употребления в практической деятельности и в других текстах. Сравните определение хлеба как пищевого продукта, выпекаемого из муки, с тем понятием о хлебе, которое сформировалось в вашем сознании в результате многолетнего опыта. Кстати, оно разное в разных национальных культурах: ведь каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и кодировки мира (см. врезку).
Язык и национальный характер
Термины, как и любые слова, — выходцы из мира знаков, а понятия, ими обозначаемые, — из мира идей. Так что уместно говорить о различиях в менталитетах для носителей разных языков. Изучением национальных языков как моделей мышления уже давно занимаются специалисты в области психолингвистики.
Лексические различия — в том, что нет точных эквивалентов для многих слов. Например, слов, которые обозначают понятия, несущие моральную или эмоциональную оценку. Так, английские слова aggressive и ambitous лишены отрицательного, осуждающего оттенка, присущего русским эквивалентам агрессивный и амбициозный. Поэтому aggressive marketing лучше переводить как активный маркетинг. Есть слова, вообще не имеющие эквивалента в другом языке. Например, сhallenge буквально означает вызов (на поединок) или обвинение, а в переносном смысле — вызов судьбы, испытание сил и способностей. В русском языке нет подходящего слова для передачи этого важного в протестантской системе ценностей понятия: «трудность, которой нужно радоваться». (Проблема — это другое: «трудность, которой нужно озаботиться или даже стыдиться».) В научном контексте приходится довольствоваться бледным переводом (задача), который не передает богатой метафорической окраски слова challenge, понятной носителю английского языка. Соответственно, challenging research domain нужно переводить как перспективная область исследований (а не вызывающая!).
В утешение славянофилам: в русском языке тоже есть не переводимые на английский слова. Например, быт. Действительно, housekeeping (домоводство) обозначает более узкое, а way of life (образ жизни) — более широкое понятие, чем то, на что русские иногда жалуются: «Быт заел!»
Итак, очевидно, что англоязычные ИТ-специалисты имеют конкурентное преимущество перед нами, поскольку глубже понимают смысл новых понятий. Значит, они могут быстрее схватывать новые концепции, эффективнее общаться на темы, связанные с инновациями, и генерировать новые смыслы. Причем это мало связано с уровнем владения формальными языками (математическим, алгоритмическим) — тем, что проверяется на международных олимпиадах по программированию и чем по праву гордятся россияне. В самом деле, когда коммуникация связана с передачей сложного знания, то на формальном языке записывается более простая, низкоуровневая его часть. На словах же передается то, что невозможно формализовать, — абстрактные идеи.
Если сопоставить высокий темп порождения ИТ-неологизмов с периодом их освоения, то окажется, что добрая половина всех актуальных терминов — всегда новые, непривычные для русского слуха. Каким образом их лучше всего переводить, чтобы по возможности уменьшить вышеупомянутое преимущество англоязычных спецов?
Читать дальше