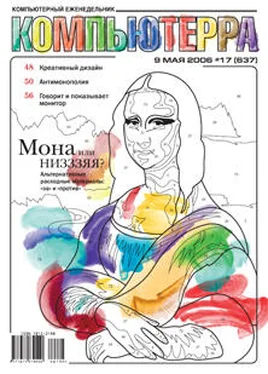При этом просматривается брешь в приватности: средневзвешенный коэффициент ключевых EXIF-параметров оказывается весьма индивидуальной величиной. Если предположить, что некоторые современные камеры, распознавая в кадре человеческое лицо, записывают в EXIF и координаты зрачков (для удаления «красных глаз»), то Большому брату есть над чем поработать.
Другое дело — непредсказуемые владельцы «автоматов». На втором году службы подмастерьями они выжимают из своих «черных ящиков» такие чудеса, что разработчики вынуждены выпускать перепрошивки firmware их камер. Правда, к производству фотошедевров это никого не приближает. "В первые времена изготовление шедевра было простой формальностью (канатчик должен был приготовить хорошую веревку, сапожник — починить 3 башмака, седельщик — сделать простое седло или простую сбрую), а позже оно превратилось в почти неодолимое препятствие. Предмет, который нужно было сделать, назначался из очень трудных и дорогих; он отнимал у кандидата много времени (иногда до года) и денег. Работа не приносила кандидату никакой прибыли: признанную удовлетворительной продавали в пользу цеха, признанную неудовлетворительной уничтожали. То была уже настоящая эксплуатация рабочих предпринимателями, ревниво оберегавшими доходные ремесла. Она вызвала новое явление — союзы подмастерьев, средневековые рабочие союзы".
Именно фотоподмастерья, не согласные с «железными мастерами», придумали путь третий — доброго русского барина: «пойди туда, не знаю куда, сфотографируй то, не знаю что». В пленочную эпоху такой взгляд, правда, не считался фотоискусством и именовался по названию породившей его камеры — «ЛОМО-Компакт-Автомат» — «ломографией». Главное из десяти правилэтого направления — «Не думать!» — гораздо шире требований к основам фотосъемки и распространяется на жизнь в целом. При таком подходе шедевр гарантирован, но этоуже совсем другая история.
ПИСЬМОНОСЕЦ: Бах, Бах и еще раз Бах
Автор: Владимир Гуриев
С неизменным интересом читаю каждый номер вашего журнала. Особое внимание привлекают статьи, преломляющие тему информационных технологий в свете различных сфер науки, культуры и искусства.
Среди такого рода материалов особенно выделяются статьи Преподобного Михаила Ваннаха. На мой взгляд, он проделывает огромную работу по привлечению внимания молодежи (и не только!) ко многим непростым духовным и культурологическим проблемам, основываясь на широко распространенном интересе к компьютерным технологиям.
Однако, к сожалению, в его последней статье «Высокая культура и высокие технологии» (#635) содержится вопиющая ошибка. После краткого, но очень содержательного экскурса в историю европейской музыки он предлагает послушать «Хорошо темперированный клавир» Бетховена...
Такого сочинения не существует. «Хорошо темперированный клавир» написал Иоганн Себастьян Бах.
Ошибка в определении авторства одного из фундаментальных сочинений в истории европейской музыки, оказавшего огромное влияние на развитие в том числе и технологии композиторского творчества, производит примерно такое же впечатление, как выражение «Евгений Онегин» Достоевского или «Фауст» Шиллера…
Такой промах тем более обиден, что может дезориентировать молодых читателей, если вдруг у кого-то из них появится интерес к названному произведению и он попытается, последовав совету Михаила Ваннаха, найти и послушать эту музыку.
В связи с этой досадной случайностью, лишний раз изумляюсь: почему, демонстрируя глубокие знания по своей специальности и незаурядную эрудицию в областях смежных наук, культурологии, литературы, философии, журналисты нередко проявляют лишь книжное, случайное знакомство с музыкой? То есть почему именно с музыкой?
В остальном, «Компьютерре» нет равных, среди ИТ-изданий — совершенно точно.
С уважением,
Всеволод М.
ОТ МИХАИЛА ВАННАХА: Большое спасибо за отмеченную опечатку. Увы, сам заметил только в печатной полосе. Отмеченное вами предложение поначалу выглядело так: «Чисто технологический, безусловно проходящий по ведомству ИТ прием, послужил инструментом высочайшего искусства — послушайте хотя бы „Хорошо темперированный клавир“ Баха, „Сонату для молоточкового клавира“ (Sonata No.28, Opus 106) глохнущего Бетховена!»
Мне хотелось этим отметить, что ТЕХНОЛОГИЯ, формальные приемы, дали возможность глохнущему Бетховену ввести фугу в Сонату для молоточкового клавира. Способность Бетховена писать фуги традиционно опровергалась немецкими музыковедами XIX века, хотя он вполне технологично вводил их в ряд работ. Превосходное изложение вопроса в начале «Доктора Фаустуса» Т. Манна. Его очень интересно перечитать, глядя на деятельность Леверкюна с точки зрения базовых понятий теории информации.
Читать дальше