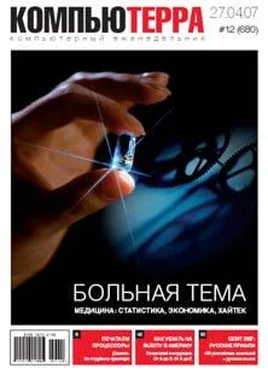Жану было одиннадцать лет, когда Гитлер принимал парад вермахта на Елисейских полях. Ему исполнилось пятнадцать, когда «шерманы» Леклерка вошли в Париж. И когда изучавшему германистику в Сорбонне Бодрийяру было двадцать два, ФРГ и Франция создали Европейское объединение угля и стали, прообраз будущего ЕС. Воевать-то по большому счету было не из-за чего. Две мировые войны двадцатого века были порождены политиками, которые не сумели осознать масштаб изменений, внесенных в мир технологией прежде всего крупносерийным и массовым производством, требующим рынков сбыта более обширных, чем дает даже самая обширная держава, и которые пытались справиться с ними в рамках устаревших категорий империй и национальных государств. Попытка избежать Второй мировой методами традиционной дипломатии — отдав Гитлеру Чехословакию — легла несмываемым пятном позора на европейских правителей. Традиционно эти политики были связаны с крупным капиталом — и поэтому неудивительны левые симпатии и Бодрийяра, и большей части интеллектуалов Франции.
Бодрийяр преподает в лицее, переводит с немецкого левых авторов: Бертольда Брехта, Карла Маркса и др.
Но на дворе 1956 год. ХХ съезд КПСС. Европейские левые с удивлением обнаруживают, что СССР вовсе не воплощенная утопия и пример всем народам, а ГУЛАГ отнюдь не выдумка реакционеров. А тут еще проблемы с пролетариатом, классом, который, преодолев самого себя, должен был проложить дорогу в светлое будущее. Класс этот размывался. Отчасти — заинтересованностью рыночной экономики в платежеспособном потребителе, исключавшей марксово обнищание масс. Но еще сильнее — технологией. Массовые производственные процессы — точное литье, штамповка, производство синтетических материалов, сегодня — производство интегральных схем, — резко уменьшили долю «синих воротничков» в экономике. В США с середины 1950-х годов «белых воротничков» оказывается больше, чем рабочих. Аналогичные процессы идут и в Европе. И осмысляются неомарксистами, прежде всего Гербертом Маркузе.

Согласно его работам («Эрос и цивилизация», «Советский марксизм», «Одномерный человек»), социальный прогресс связан теперь не с рабочими, подкупленными буржуазией (необходимость платежеспособного спроса!), а с интеллектуалами и особенно со студенчеством, еще не интегрированным в истеблишмент.
Лето 1968 года, казалось бы, подтверждает это. Студенческие беспорядки. Ассистент-профессор Бодрийяр принимает в них активное участие. Но в результате он делает следующий шаг к пониманию современного ему общества. Заметным событием становится его «Система вещей», выросшая из тезисов докторской диссертации. Ровная научная карьера — с 1972 года профессор социологии в университете Парижа-Х, Нантерр. С 1986 по 1990 гг. — директор по науке в Исследовательском институте Социоэкономической информации при Университете Парижа-IX в Дофине.
Глобальная, за пределами кругов интеллектуалов, известность, в результате высказывания абсолютно скандальных оценок Войны в Заливе «Войны в заливе не было» («The Gulf War Did Not Take Place», 1991) и террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года «Дух терроризма: и реквием по башням-близнецам» («The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers», 2002).
Но это уже сформировавшиеся мысли. А чтобы понять, как они сформировались, надо помнить, что тридцатилетний Бодрийяр был свидетелем Берлинского и Карибского кризисов, когда мир застыл над пропастью ядерной войны. И Герберт Кан сформулировал концепцию «Машины Страшного Суда», ядерного устройства, способного уничтожить разумную жизнь на планете и делающего бессмысленным ведение сколько-нибудь масштабных войн. Технологически ближе всего к Doomsday machine приближалась советская 100-мегатонная бомба. А художественное воплощение этой концепции дано в фильме С. Кубрика «Доктор Стрейнджлав». И месседж был распознан и понят наиболее проницательными интеллектуалами. Война стала невозможной. Слишком мала голубая планета для ядерных бомб. И бессмысленны флоты ядерных подводных ракетоносцев, тысячи наземных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, противоракеты неудачной системы «Safeguard» и их вставшие на боевое дежурство советские аналоги, бомбардировщики B-1 и Ту-160, все эти невероятно дорогие плоды классической гонки вооружений 1960—80-х годов. Деятельность военных министерств, военно-промышленных комплексов, разведок — это всего лишь имитация. Симулякр.
Читать дальше