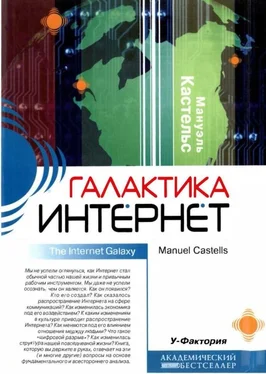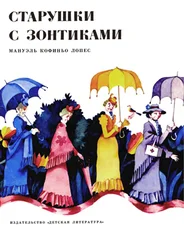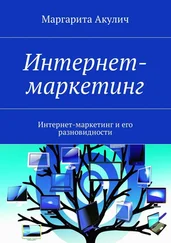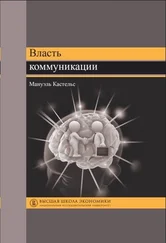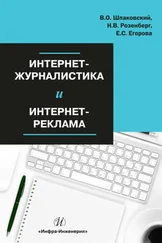При этом я буду основываться на усилиях ряда ученых синтезировать и истолковать имеющиеся данные о взаимоотношениях Интернета с обществом. Особо ценными для моих умозаключений оказались работы Барри Уэллмана и его коллег, обзор исследований по виртуальным сообществам Стива Джонса и замечательный анализ социальных исследований Интернета, сделанный Ди Маджио, Харгиттаи, Ньюманом и Робинсоном. Прочие источники информации, использующиеся и комментирующиеся в настоящей главе, перечислены в конце главы.
Социальная реальность и виртуальность Интернета
Прежде всего, в подавляющем большинстве случаев использование Интернета является инструментальным, тесно связанным с работой, семьей и повседневной жизнью пользователей Сети. Свыше 85% всех случаев использования Интернета приходится на электронную почту, и большая часть объема последней связана с выполнением различных функций, конкретными задачами и контактами с родными и друзьями в условиях реальной жизни (Anderson and Tracey, 2001; Howard, Rainie, and Jones, 2001; Tracey and Anderson, 2001). Чаты, группы новостей и многоцелевые Интернет-конференции представлялись первым пользователям Сети весьма содержательными, однако с распространением Интернета их количественная и качественная значимость существенным образом понизились.
Интернет был использован социальной практикой во всем ее многообразии, однако такое использование оказывает соответствующее влияние и на саму социальную практику, как я покажу это ниже. Ролевые игры и конструирование идентичности в качестве основы онлайнового взаимодействия составляют лишь малую долю системы социальных связей, основанную на Интернете, и этот вид практики большей частью концентрируется вокруг тинейджеров. В самом деле, подростки — это люди, пребывающие в процессе открытия своей идентичности, экспериментирования с нею и выяснения того, кем они на самом деле являются или, возможно, станут. Они представляют собой увлекательный объект исследования для понимания того, как происходит формирование личности и экспериментирование с нею. Однако быстрое увеличение числа исследований по этому вопросу исказило общественное восприятие Интернета как социальной практики, в результате чего он стал восприниматься в качестве привилегированной зоны для проявления личных фантазий. Однако в большинстве случаев это совсем не так. Социальная практика является продолжением жизни как таковой, во всех ее измерениях и модальностях. Более того, даже в ролевых играх и в неформальных чатах реальная жизнь (в том числе и реальная жизнь в режиме онлайн), похоже, оказывают определяющее влияние и на характер онлайнового взаимодействия. Так, например, Шерри Тёркл, первопроходец в области исследований конструирования идентичности посредством Интернета, заканчивает свою классическую работу замечанием, что «представление о реальном отвечает ударом на удар. Люди, живущие параллельной жизнью на экране, тем не менее связаны желаниями, страданиями и бренностью их физических сущностей. Виртуальные сообщества предлагают новый драматический контекст для размышлений о человеческой идентичности в эпоху Интернета» (Turkle, 1995: 267). Аналогичным образом Нэнси Бейм, изучавшая поведение онлайновых сообществ на основании своего этнографического исследования r.a.t.s. (группа новостей, посвященная «мыльным операм»), утверждает, что «реальность, по-видимому, заключается в том, что многие, а возможно, и большинство общественных пользователей компьютерных средств коммуникации создают онлайновые эго, совместимые с их внесетевой идентичностью» (Ваут, 1998: 55). Короче говоря, ролевые игры — это впечатляющий социальный опыт, который, однако, в наши дни составляет лишь незначительную часть социального взаимодействия посредством Интернета.
Самые первые этапы использования Интернета, пришедшиеся на 1980-е годы, подавались как начало новой эры свободной коммуникации и реализации себя в виртуальных сообществах, построенных вокруг поддерживаемой компьютерами коммуникации. Суждения, аналогичные тем, что делал Джон Перри Барлоу, соучредитель либертарианской организации Electronic Frontier Foundation, весьма характерны для подобного рода пророческих настроений: «Сейчас создаем пространство, в котором население Земли сможет получить [новый] вид коммуникационных отношений: я должен быть в состоянии целиком и полностью взаимодействовать с сознанием, пытающимся взаимодействовать со мной» (Barlow, 1995: 40). Значимая по своему содержанию книга Говарда Рейнгольда «Виртуальное сообщество» (1993) задает тон дискуссии, приводя убедительные доказательства рождения новой формы сообщества, объединяющего людей в онлайновом режиме вокруг общих ценностей и интересов и образующего связи поддержки и дружбы, которые могут распространяться также и на межличностное взаимодействие. Замаячила надежда на возникновение ничем не ограниченного социального взаимодействия. И опыт WELL, виртуального сообщества, появившегося в районе залива Сан-Франциско в середине 1980-х годов, членами которого были ключевые фигуры раннего периода истории культуры Интернета, такие как Стюарт Бранд, Ларри Брильянт и Говард Рейнгольд, по-видимому, точно соответствовал такой модели. Однако, по мере того как Интернет становился общественным мейнстримом, его влияние на социальное взаимодействие становилось все менее ощутимым. Даже WELL с годами претерпело значительную трансформацию, когда прессинг коммерциализации и последующие передачи собственности изменили его характер и его состав, как это документально продемонстрировал в своем исследовании Чжоу (2000).
Читать дальше