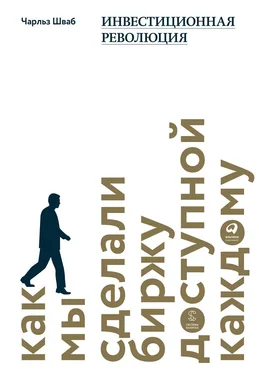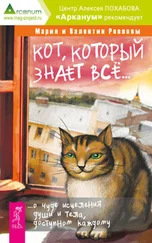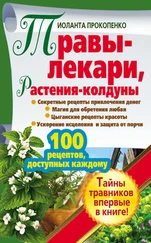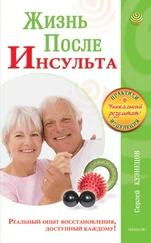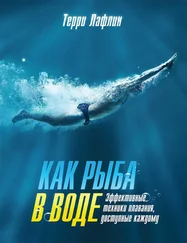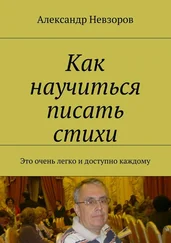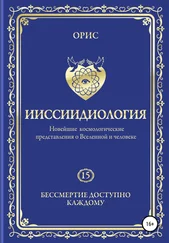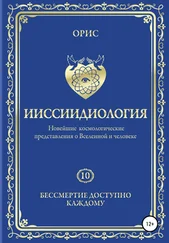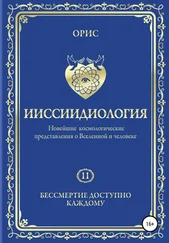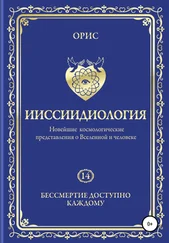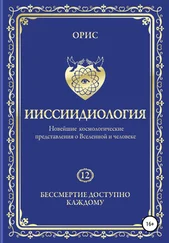Следующее лето я отработал железнодорожным стрелочником в Чикаго. Эта работа дала мне много стимулов, чтобы закончить университет и получить хорошую профессию. Шел 1958 год – год рецессии в экономике США. Я и трое моих друзей из Стэнфорда вскладчину купили моторную лодку. Ее содержание обходилось каждому из нас в $10 в месяц. По выходным мы ездили кататься на водных лыжах неподалеку от университетского кампуса. Но в то лето все четверо разъезжались в разных направлениях, так что пришлось тянуть жребий, чтобы решить, кто будет пользоваться лодкой до осени. Она досталась моему другу Джею. Он решил, что заберет ее в Чикаго. У меня не было никаких планов на каникулы, и я решил: «Черт, поеду-ка я с ним».
Отец выдал мне на лето $100, но я все потратил, пока добрался до Омахи, штат Небраска. Моя машина все время ломалась: то радиатор, то топливный насос, то Бог знает что еще. Когда мы прибыли в Омаху, у меня не работала первая передача и почти сгорело сцепление, а у Джея полетел стартер, и мы вынуждены были толкать его машину, чтобы она завелась. Мы старались ехать, не останавливаясь, насколько это возможно, и так дотащились до Омахи через Айова-Сити, где случилось наводнение: дело было поздней весной, из-за дождей реки вышли из берегов. Когда мы наконец прибыли в Чикаго, мне пришлось занимать деньги у отца Джея. Мне очень нужна была подработка, и я попробовал устроиться в такси. К счастью, меня не взяли.
На сталелитейный завод тоже было не попасть: из-за рецессии там образовались большие очереди из желающих подработать. Тогда я обратился в железнодорожные компании. Illinois Central и Santa Fe принимали сотрудников, но не на постоянную работу, а на разовые дежурства. Я был совсем юным, да к тому же новичком, поэтому мне давали те смены, на которые не находилось других желающих: пятницу, субботу и воскресенье, а также ночные дежурства. Я ненавидел эту работу, но не потому, что она была тяжелой. Напротив, здесь я узнал, что значит бить баклуши. Мы приходили на работу (нанятых было больше, чем требовалось, чтобы выполнить задание) и за пару часов делали все, что положено стрелочникам, – расцепляли и сцепляли вагоны, готовя их к отправке в нужном направлении. Затем отыскивали служебный вагон, где обычно на длинных перегонах отдыхали механики, и следующие шесть часов спали. Меня все это вгоняло в депрессию.
При этом мне довелось познакомиться там с замечательными людьми. Они потеряли работу из-за рецессии и теперь вынуждены были подрабатывать на железной дороге, как и я. Среди них был школьный учитель музыки лет 35. У него была жена и трое детей. Ему платили столько же, сколько и мне, хотя он был квалифицированным специалистом. Это произвело на меня большое впечатление. За день он зарабатывал $19,95. Я понимал, что не хотел бы в его возрасте оказаться в таком положении.
Общение с людьми, оказавшимися заложниками своей работы без особой надежды найти подходящую вакансию, стало для меня дополнительной мотивацией, чтобы закончить университет. А мотивация, откровенно говоря, была очень нужна. Мне всегда было нелегко учиться. Дислексия осложняла жизнь, но я никак не мог понять, почему я испытываю бо́льшие трудности, чем мои друзья. Мне неплохо давались естественные науки и математика, но, так или иначе, все приходилось брать с боем. Труднее всего было с английским. Я всегда медленно читал, а сочинение не смог бы написать, даже если бы это был вопрос жизни и смерти. Я сидел, уставившись в чистый лист, мысли путались. Непонятно было, как начать. Я решил, что я просто глупый, и думал так почти 40 лет, пока в 1983 году мой сын Майкл не столкнулся с такими же проблемами в школе.
Сначала учителя порекомендовали нам нанять тьюторов. Когда это не помогло, посоветовали пройти обследование. К моему удивлению, у сына диагностировали дислексию – неврологическое расстройство, влияющее на способность к обучению. В основном она затрудняет чтение и письмо. Дислексикам непросто расшифровать письменный текст. Обычные люди, как правило, без усилий соединяют буквы в слова. А для дислексиков это набор бессмысленных символов. Я часто привожу такое сравнение: представьте, как выглядел бы телевизионный экран, если бы мы вместо целостного изображения видели тысячи отдельных пикселей. Страдающие дислексией люди столько времени затрачивают на распознание символов, что от них может ускользать смысл текста в целом.
Мне лично приходилось сначала преобразовывать каждую букву в звук, а затем соединять звуки в слова, то есть мысленно озвучивать их. Я не мог мгновенно понять смысл словосочетания «кошка на окошке». Символы надо было перевести в звуки: «к.о.ш.к.а.н.а.о.к.о.ш.к.е.». Иногда мне встречались незнакомые слова, и мне сначала надо было их произнести, чтобы осмыслить. Это сильно замедляло процесс и мешало пониманию. Прочитав половину абзаца, я терял нить рассуждения. Трудно было добраться до сути. Все силы тратились, чтобы выстроить слова, а не чтобы понять текст.
Читать дальше