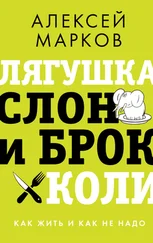Сила фрейминга в действии.
Канеман и Тверски писали о том, как люди рассматривают финансовые приобретения и потери и насколько может отличаться реакция на одно и то же от контекста. Один из самых известных примеров – про билеты.
Ситуация первая: купили вы билеты на концерт Rammstein, в суперфанзону, по 200 баксов за билет. У вас с собой зачётная тёлочка (или юноша) и два билета общей стоимостью 400 долларов. Вот вы приезжаете к «Олимпийскому» и вдруг с ужасом понимаете, что билеты куда-то провафлились. Вы стоите у кассы как кретин, а вокруг снуют довольные фанаты. Вопрос, который Канеман и Тверски задавали людям, очень прост: « Купите ли вы ещё одну пару билетов? »
Скажу сразу, что тут есть, конечно, небольшая загвоздка – ведь люди только представляли себе такую ситуацию, а не были в ней реально. Если вам это допущение не нравится, психология – не для вас. Так вот, большинство людей сказали: « Чёрт, я буду в таком ахуе от своей тупости, что я просто поеду домой как полный мудак ».
Потом людям задавали другую версию этого же вопроса, и звучала она так: « Вы забронировали два билета, чтобы выкупить их на кассе, и принесли с собой в кошельке 400 баксов. Вы подходите к кассе, открываете кошелёк – а денег нет. Ну ёб твою мать! » И опять вопрос: что вы сделаете? Подойдёте к окошку и расплатитесь кредиткой или пойдёте домой сосать с горя пиво и смотреть телевизор?
Тут уже большинство людей говорит: « Ну бля, чо делать, раз такая засада, куплю билеты ещё раз ».
Это странно. Ну реально, какая разница? В экономических понятиях нет разницы, потеряли вы что-то стоимостью $400 или сами $400. Более того, деньги даже более ликвидны, чем билеты: их гораздо проще поменять на еду, чем наоборот. Почему же люди ведут себя по-разному?
Дело как раз во фрейминге. Билеты и наличка у нас в голове лежат на разных счетах. Ментальный счёт, где билеты, придаёт событию эмоциональную окраску и меняет действие растяпы, поэтому потерять с этого счёта больнее, чем из кэша. К сожалению (и к счастью для мавродиобразных козликов), наши решения подвластны таким предрассудкам. Поэтому надо точно выставлять свой фрейм, чтобы правильно распорядиться рисками.
Если вы приехали на концерт и билетов у вас нет, не имеет значения, были ли они у вас до этого. Нет никакого смысла обижаться на уродов, которые их вытащили, и вообще думать о том, что было десять минут назад. Несмотря на эмоциональный окрас ментального счёта «билеты», новые билеты не будут стоить в два раза дороже, ведь старые уже потеряны и не имеет значения, сколько они стоили. Всё, о чём нужно думать в этот момент, – можете ли вы в текущей экономической ситуации позволить себе купить билеты на концерт. Не «новые билеты», а просто – билеты.
Канеман и Тверски ещё изучали страхование, тоже задавали людям один и тот же вопрос с разными формулировками. Когда они упоминали слово «страхование» и спрашивали, заплатили ли бы вы за такой контракт, то люди соглашались гораздо чаще, чем если им предлагали те же самые условия, но не используя слова «страховка», а предлагая какую-нибудь «условную выплату». Потому что люди способны понять, что если страховка относительно конкурентов недорогая, то в ней есть смысл. Но если слово «страховка» опустить, то такой контракт людей интересовал гораздо меньше.
Ещё один пример фрейминга – это то, как мы обращаемся с инфляцией. У нас есть денежный фрейм и «реальный» фрейм. Стоимость денег меняется с течением времени из-за инфляции (иногда и дефляции, но это не про нас). Но большинство долгов номинируется в денежном фрейме. То есть не индексируется на инфляцию. Если бы мы хотели считать всё в реальном фрейме (т. е. в товарах и услугах), мы бы индексировали кредиты на изменение потребительской корзины. Когда мы даём деньги в долг, мы думаем в денежном фрейме. Дали вы кому-нибудь сто тыщ в долг и говорите: « Верни через полгода сто десять » (ну, то есть 20 % годовых).
Но ведь нам не нужны деньги сами по себе – нам нужны деньги для оплаты товаров. Почему бы не сказать заёмщику: « Заплати мне 10 % годовых + компенсируй инфляцию за этот срок ». Это было бы переключением в реальный фрейм. Это более логично и осмысленно, но большинство людей так никогда не сделают. Наши доходы никак не привязаны к инфляции: депозиты, купоны по облигациям, а люди не могут преодолеть этот денежный фрейм даже в условиях адского кризиса. Они вроде бы и чуют нутром, что здесь что-то не то, но рост цен всё равно отдельно, а долги – отдельно. Слишком мощное психологическое давление общественных ценностей (то есть бабла), хотя это и ловко сконструированная иллюзия. Люди думают, что им нужны деньги, но на самом-то деле им нужны реальные товары и услуги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Алексей Марков Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее] обложка книги](/books/390524/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi-cover.webp)