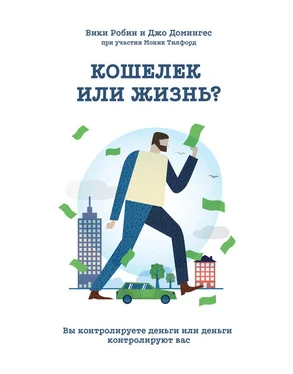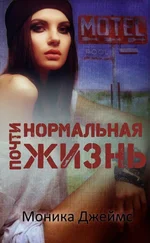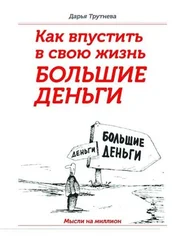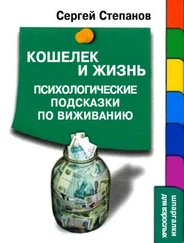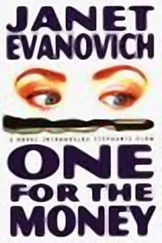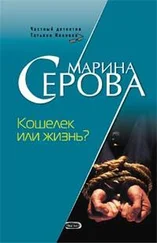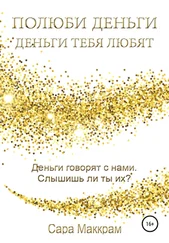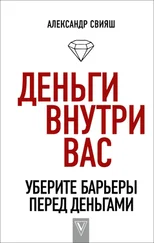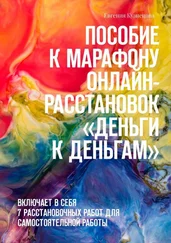Опыт деятельности всех этих коммун подтвердил мысль, высказанную практичным доктором Франклином еще в XVIII веке: если бы каждый физически трудился три часа в день, то никому не было бы необходимости работать более тех же трех часов [102].
Теперь переместимся в XX век: в 1934 году индийский мудрец и гуру Парамаханса Йогананда [103]говорил о самодостаточных, духовно ориентированных, рассеянных по всему миру коммунах, в которых
…каждый, бедный или богатый, должен работать три часа в день, чтобы покрыть потребность в минимуме необходимых для жизни продуктов… работать всего три часа в день, чтобы наслаждаться роскошью духовного богатства и иметь время для занятий тем, что наполняет его жизнь смыслом [104].
Все эти высказывания сходятся в одном: для удовлетворения основных жизненных потребностей трех часов работы в день достаточно. Можно представить, что в доиндустриальную эпоху это имело смысл. Жизнь была гораздо более спокойной, чем после того, как «работа» вторглась в семейный досуг, религиозные церемонии и игры. Затем наступила «трудосберегающая» индустриальная революция, и жизнь распалась на две части – «работу» и нерабочее время, при этом работа поглощала все б о льшую часть дня «простого человека».
В XIX веке этот «простой человек», обретя вполне оправданное отвращение к столь долгому рабочему дню, начал борьбу за его сокращение. Лидеры рабочих заявляли, что чем короче будет рабочий день, тем меньше люди станут уставать и тем выше будет производительность труда. Действительно, они считали, что сокращение рабочего дня – реальное проявление индустриальной революции. Сокращение продолжительности рабочего дня высвободит рабочим время для развития способностей более высокого порядка, и демократическое государство получит преимущество от повышения уровня образования и активности граждан.
Но все это закончилось в период Великой депрессии [105]. Продолжительность рабочей недели, резко сократившаяся с 60 часов на рубеже веков до 35 часов в канун Великой депрессии, опять возросла до 40 часов для многих категорий работников, а в последующие годы доходила до 50 и даже 60 часов. Почему?
Право на жизнь, свободу и получение зарплаты
В период Депрессии свободное время отождествлялось с безработицей. Стремясь сократить безработицу и стимулировать экономику, Новый курс [106]установил 40-часовую рабочую неделю и сделал государство работодателем последней надежды. Бенджамин Ханникатт так описывает доктрину «полной занятости»:
Со времен Депрессии лишь немногие американцы считали, что сокращение рабочего дня – это естественное, длительное и позитивное следствие экономического роста и повышения производительности труда. Вместо этого дополнительное свободное время считалось убытком для экономики, недополученной зарплатой и тормозом экономического прогресса [107].
Мифы о том, что «рост – это хорошо» и «полная занятость – благо», стали ключевыми ценностями. Они прекрасно сочетались с доктриной «полного потребления», которая гласила, что отпуск – это товар для потребления, а не просто свободное время, которым можно наслаждаться. Во второй половине века полная занятость означала большее количество потребителей, имеющих в своем распоряжении больше доходов. Потребление заставляет вертеться колесо прогресса, как мы уже убедились в главе 1.
Таким образом, мы видим, что наша, т. е. общественная, концепция отдыха радикально изменилась. Если раньше он воспринимался как желанный и цивилизованный компонент повседневной жизни, то теперь это нечто такое, чего следует бояться, напоминание о безработице в годы Великой депрессии. По мере снижения ценности отдыха ценность работы росла. Стимулирование полной занятости наряду с развитием рекламы формировало у населения установку на работу и получение большего дохода, чтобы иметь возможность больше потреблять.
Этот тезис наиболее ярко иллюстрируется нашим отношением к автомобилям. Будучи некогда атрибутами отдыха, ныне они стали продолжением офисов на колесах. Мы носим беспроводные наушники, чтобы заключать сделки по телефону, одновременно маневрируя в потоке машин. Существуют даже устройства, превращающие кресло пассажира в мини-офис. Некоторое время назад моего много поездившего по миру друга спросили, где он живет. Он ответил: «В самолетах Northwest Airlines». Возможно, сейчас в ответ на этот вопрос он дал бы свой IP, или номер своей машины, или номер скоростного шоссе, где он работает, сидя в машине в час пик.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу