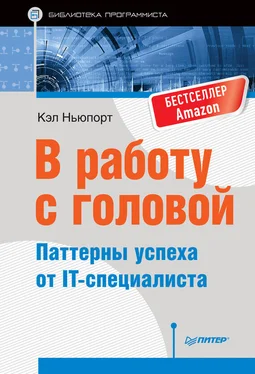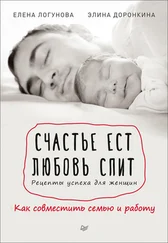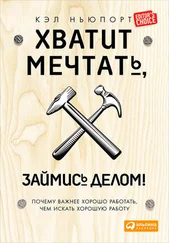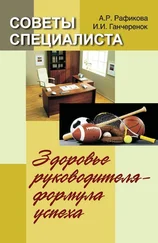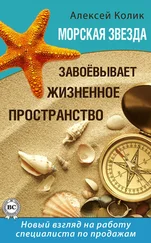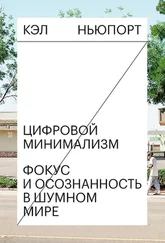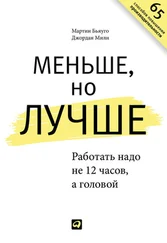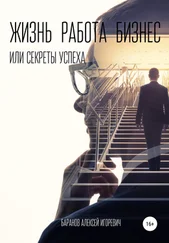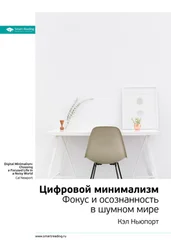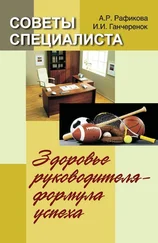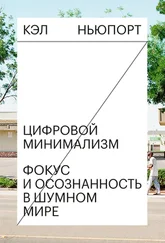Однако когда война окончилась, приток ученых в Кембридж не ослабел. Институту были необходимы площади, поэтому вместо того, чтобы сразу же снести Двадцатый корпус, как было обещано местным властям (те разрешили, но не настаивали на этом), в нем продолжали размещать сотрудников, которым не нашлось другого места. В результате это приземистое здание занимали разные отделы в самых странных сочетаниях – от физиков-ядерщиков до лингвистов и электронщиков наряду с еще более экзотическими съемщиками вроде механического цеха и мастерской по починке пианино. Так как здание было самым дешевым, все эти люди не стеснялись переоборудовать помещения под свои нужды. Стены и полы можно было передвигать и прикреплять оборудование к балкам. Пересказывая историю работы Джерольда Захариаса над первой моделью атомных часов, автор упомянутой выше статьи в New Yorker пишет, что важную роль в этой работе сыграла возможность снести два этажа в помещениях Двадцатого корпуса, отданных под лабораторию ученого, чтобы он смог установить трехэтажный цилиндр – необходимую часть его экспериментальной аппаратуры.
В легендах MIT распространена теория, что именно эта произвольная комбинация различных дисциплин, оказавшихся бок о бок в большом, открытом для перепланировок здании, привела к случайным встречам и породила дух изобретательства, благодаря которым начали одно за другим совершаться открытия, развиваться самые разные инновационные направления – грамматика Хомского, радионавигационная система LORAN и видеоигры, – на протяжении все тех же продуктивных послевоенных десятилетий. Когда здание было наконец снесено, освободив место для нового, спроектированного Фрэнком Гери Стата-Центра стоимостью в триста миллионов долларов (где мне и довелось работать), это было воспринято как большая утрата. В знак почтения к снесенному «фанерному дворцу» в дизайн интерьеров Стата-Центра были включены панели из необработанной фанеры и голого бетона с незашлифованными следами арматуры.
Примерно в то же время, когда спешно сооружался Двадцатый корпус, в двухстах милях к юго-западу от него, в Мюррей-Хилл, Нью-Джерси, к делу обеспечения условий для интуитивного творчества подошли более серьезно. Именно здесь директор лабораторий Белла Мервин Келли руководил постройкой нового здания, которое должно было целенаправленно поощрять взаимодействие среди пестрой компании из ученых и инженеров. Келли отказался от стандартного университетского подхода, при котором разные факультеты размещаются в отдельных зданиях, и вместо этого собрал их все в одно вытянутое строение, соединенное длинными коридорами – некоторые из них были настолько длинны, что, если стоять в одном конце, другой исчезал из виду. Хроникер лабораторий Белла Джон Гертнер так отозвался об этой планировке: «Пройти такой коридор из конца в конец, не столкнувшись с некоторым количеством знакомых, проблем, развлечений и новых идей было практически нереально. Какой-нибудь физик, отправившийся позавтракать в кафетерий, был подобен магниту, катящемуся среди железных опилок».
Результатом такой стратегии, в сочетании с напористостью Келли, сумевшего привлечь сюда лучшие умы, явилась, наверное, самая высокая концентрация новаторских методик в истории современной цивилизации. За десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, лаборатория разработала, помимо других достижений: первый солнечный фотоэлемент, лазер, спутник связи, систему сотовой связи и оптоволоконную сеть. За то же время работавшие в лаборатории теоретики сформулировали теорию информации и теорию кодирования, астрономы завоевали Нобелевскую премию за эмпирическое подтверждение теории Большого взрыва, а физики – и возможно, это было самым значительным достижением – изобрели транзистор.
Другими словами, теория интуитивной креативности представляется вполне оправданной в свете ряда исторических событий. Мы можем с большой долей уверенности утверждать, что для изобретения транзистора действительно требовался избранный лабораториями Белла подход – собрать ученых, занимающихся физикой твердого тела, квантовой физики и экспериментаторов мирового уровня в одном здании, где они могли бы плодотворно общаться и делиться опытом друг с другом. Такое изобретение едва ли мог создать одинокий ученый, уединившийся в научном аналоге каменной Башни Юнга.
Однако здесь нам необходимо учесть как можно больше деталей, чтобы понять, что в действительности служило источником новаторских идей в таких местах, как Двадцатый корпус или лаборатории Белла. Для этого позвольте мне еще раз обратиться к моему опыту работы в MIT. Я появился там осенью 2004 года, едва получив степень PhD, и оказался в числе первой группы ученых, которых разместили в новом Стата-Центре, построенном, как упоминалось выше, на месте Двадцатого корпуса. Поскольку центр только что открыли, для ученых организовали экскурсию, чтобы продемонстрировать его достоинства. Как мы узнали, Фрэнк Гери разместил кабинеты вокруг общих комнат и спланировал открытые лестничные площадки между соседними этажами в очевидной попытке способствовать такому же плодотворному общению между учеными, каким славилось предыдущее здание. Однако больше всего меня в то время поразил один момент, который никак не относился к Гери, но был впоследствии добавлен по настоянию факультета, а именно: установленные в дверные коробки кабинетов специальные прокладки для лучшей звукоизоляции. Институтские ученые – лучшие мировые технологи, славящиеся новаторским подходом, – знать ничего не хотели о рабочем пространстве открытого типа. Наоборот, им требовалась возможность наглухо отгородиться от внешнего мира.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу