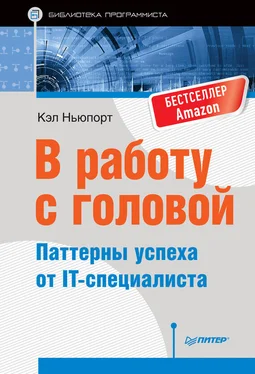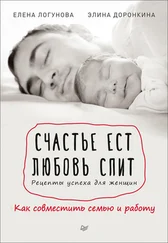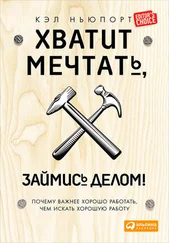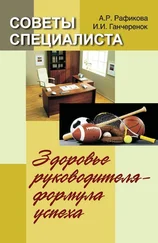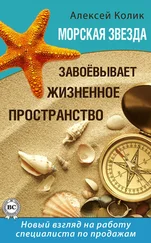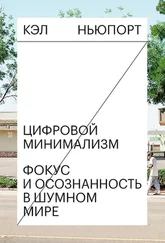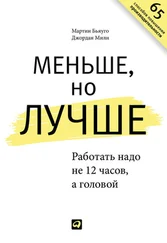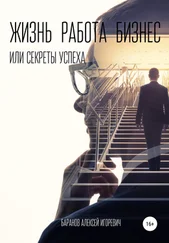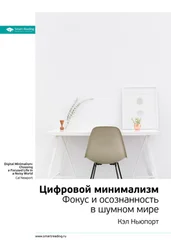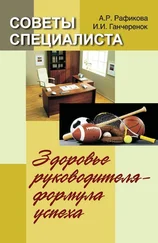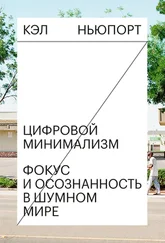Еще один приверженец «монашеского» подхода к углубленной работе – прославленный писатель-фантаст Нил Стивенсон. Если вы посетите его авторский веб-сайт, то заметите, что там не указан ни адрес электронной почты, ни обычный почтовый адрес. Некоторый свет на это упущение проливают два эссе, размещенные Стивенсоном на его первом веб-сайте (на хостинге «The Well») еще в начале 2000-х гг. и сохраненные «Архивом Интернета». В одном из этих эссе, заархивированном в 2003 году, Стивенсон подытоживает свои принципы коммуникации следующим образом:
Людей, желающих нарушить мое сосредоточение, я вежливо прошу этого не делать и предупреждаю, что не отвечаю на электронные письма… чтобы основной смысл [моих принципов коммуникации] не оказался потерян за изящными формулировками, я изложу его здесь в сжатой форме: все мое время и внимание уже зарезервированы, причем неоднократно. Пожалуйста, не претендуйте на них.
Чтобы еще четче разъяснить эти принципы, Стивенсон написал эссе под заглавием «Почему я плохой корреспондент» (Why I Am a Bad Correspondent). В целом его оправдание собственной недоступности опирается на следующее:
Другими словами, уравнение продуктивности является нелинейным. В этом причина того, что я плохой корреспондент, и того, что я очень редко принимаю приглашения где-либо выступать. Когда я организую свою жизнь таким образом, чтобы получалось много долгих, следующих друг за другом, ничем не прерываемых периодов времени, я могу писать романы. Но если эти периоды оказываются разделены и разбиты на части, моя продуктивность как писателя ощутимо идет на убыль.
Стивенсон видит лишь два взаимоисключающих варианта: он может писать хорошие романы в своем обычном темпе – или же он может отвечать на множество электронных писем и присутствовать на конференциях и в результате писать романы хуже и медленнее. Он избрал первый вариант и теперь избегает любых источников поверхностной работы. (Этот вопрос оказался настолько важным для Стивенсона, что писатель впоследствии более глубоко раскрыл его в своем эпическом научно-фантастическом романе «Анафем» 2008 года, где описывается мир, в котором интеллектуальная элита сосредоточена в монашеских орденах, изолированных от рассеянных толп и технологической реальности и погруженных в глубокие размышления.)
Исходя из моего опыта, «монашеская» система заставляет многих интеллектуальных работников занимать оборонительную позицию. Четкость, с которой ее адепты определяют свою ценность для мира, как я подозреваю, задевает больной нерв у тех, чей вклад в информационную экономическую картину не столь однозначен. Разумеется, следует отметить, что «неоднозначный» не означает «меньший по объему». Руководящий работник высокого ранга, например, способен играть жизненно важную роль в функционировании компании с бюджетом в миллиард долларов, даже если он не может предъявить нечто конкретное вроде законченного романа и сказать: «Вот что я сделал за год». Следовательно, группа людей, для которых «монашеская» система подходит, достаточно ограниченна – и тут нет ничего плохого. Если вы не входите в эту группу, радикальная простота «монашеской» системы не должна вызывать у вас чрезмерной зависти. С другой стороны, если вы принадлежите к таким людям – то есть если ваш вклад в окружающий мир достаточно конкретен, четок и индивидуален [8], – то в таком случае вам стоит задуматься над этой системой, поскольку она может стать решающим фактором выбора между обычной профессиональной карьерой и такой, которая запомнится надолго.
Двухрежимная система планирования углубленной работы
Эта книга открывалась рассказом о революционном психологе и мыслителе Карле Юнге. В 1920-е годы, в то же самое время, когда Юнг пытался выйти за рамки ограничений своего наставника Зигмунда Фрейда, он начал регулярно уединяться в простом каменном доме, который построил в лесу в окрестностях маленькой деревушки Боллинген. Там Юнг каждое утро закрывался в комнате с минимумом удобств, чтобы писать без каких-либо помех. После этого он медитировал и гулял в лесу, чтобы сделать свой ум более ясным, готовясь к работе следующего дня. Как я уже указывал, эти меры были призваны повысить интенсивность его углубленной работы до такого уровня, который позволил Юнгу одержать верх в интеллектуальной схватке с Фрейдом и множеством его сторонников.
Пересказывая заново эту историю, я хочу подчеркнуть важный момент: Юнг не прибегал к «монашеской» схеме подхода к углубленной работе. Дональд Кнут и Нил Стивенсон, которых мы приводили в пример ранее, пытались полностью исключить из своей профессиональной жизни отвлекающие моменты и поверхностную деятельность. Юнг, с другой стороны, стремился устраниться от них только в периоды своего уединения. Остальную часть своего времени он проводил в Цюрихе, где вел жизнь, весьма далекую от монашеской. У него была обширная клиническая практика, которая зачастую заставляла его принимать пациентов допоздна; он был завсегдатаем многочисленных цюрихских кофеен; также он читал и посещал множество лекций в знаменитых университетах города. (Эйнштейн получил докторскую степень в одном из цюрихских университетов, а позднее преподавал в другом; также, что любопытно, он был знаком с Юнгом, и они несколько раз встречались за обедом, где обсуждали ключевые идеи специальной теории относительности.) Жизнь Юнга в Цюрихе, другими словами, во многих смыслах ничем не отличалась от жизни типичного суперзанятого интеллектуального работника цифровой эпохи – замените Цюрих на Сан-Франциско, а письма на твиты, и вы получите какого-то напористого руководителя технического предприятия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу