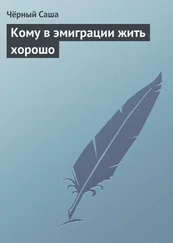Она присмотрелась к ощущению, отказываясь наотрез выть вместе с ним.
– Не мое! – сообщила она телу, отвергнув чуждое нытье. – Пусть воет!
«Плохо мне, плохо! Больно!» – заныл неизвестно кто в ее голове ее собственным голосом.
Если бы не умеренное количество собственной прогрессивной настроенности на определенную цель, она бы, пожалуй, пострадала вместе с интересным высказыванием – слишком уж голосок был проникновенным, затрагивая струны внутренних вибраций, душевный, как голос Благодетельницы, когда она выступала по радио.
Но голосок прикатил не вовремя. «Плохо и больно» размазывалось в голове общедоступным чувством: «Ой, бедная я, бедная, опять посмеялись надо мной…» – и сразу страх неизвестности.
Манька одернула себя: с чего ей жаловаться? Дьявол как раз предупреждал, что Ад не Сад-Утопия. Если уж по-честноку, место оказалось не хуже и не лучше многих других. Каменная пустыня, но снега нет, железо в избах осталось, и пока никто ее в костер не тащил. Она слегка наклонилась, привалившись к камню, проверяя местность затылочным зрением.
Черт чихнул, перепрыгнув через ее голову, и слегка поклонился. Затылочным зрением уловить его она не успела. Возможно, он все это время стоял позади, слившись с камнями, тогда чертей здесь было пруд пруди. Удивительно самостоятельное нутро сразу же ныть перестало, а черт как-то сразу обмяк, и внезапно, повернувшись к ней, трансформировался…
Нормально, глазами, черта она видела впервые.
Тело его покрывала шелковистая шерстка, на лбу торчали рожки, за спиной закручивался хвост – лысый, с пушком на кончике, но в остальном он в точности копировал ее саму. Живой, плотский. Пожалуй, можно было пощупать руками. И Манька не удержалась, ткнула в него пальцем.
Черт смутился, покраснел. Он как будто не ожидал ее увидеть, и тоже рассматривал во все глаза, но искоса, исподлобья.
Зная их вредную, бессовестную натуру, никакой радости в его обществе она не испытала. Наоборот, встревожилась. Но, вспомнив, что черт в Аду считался законопослушным гражданином, слегка успокоилась. Лишь бы не додумался ябедничать. Плевать в землю в Аду – примета была дурная, не дружественная. Дьявол мог забыть о своем добром расположении.
Манька еще в избах привыкла, что черти умеют становиться похожими на человека, но в виде себя самой, лицом к лицу, потустороннее существо лицезреть не ожидала. И растерялась. Смотреть на себя оказалось не столько неприятно, сколько невыносимо. Боль внезапно нахлынула с чувством обиды за себя и с отвращением к вампиру, который умело и преднамеренно облачил ее в такие… неподобающие одежды.
Неуверенный, неряшливый вид, тяжелый стеклянистый отсутствующий взгляд с мутными зрачками, опухшее красное лицо, слегка искаженное от боли, под глазами мешки, движения отрывистые, угрожающие. Наверное, такая, прилипчиво-убогая, ходила она по дорогам, пугая людей, такой ее видел Дьявол, и такая она сидела где-то глубоко в подсознании, выставляясь наружу всякий раз, как только Дьявол уходил из мыслей, предоставляя ее самой себе на самоистязание.
Это была… не совсем она… Или уже не она…
Благодарение Богу, что вся мерзость не становилась ее одеждой сразу! Трижды был прав Дьявол, когда журил ее за мученичество: такое угрюмое лицо никому не подошло бы. Да, имидж у нее был самый что ни на есть поганый. И ведь нельзя сказать, что она совсем уж не такая: тело ее постоянно что-то роняло, перед кем-то ползало, просило, унижалось, продавалось – так она себя чувствовала, когда разговаривала с человеком, теряясь, заикаясь, не уверенная, слушает ли ее.
На сердце стало холодно: с глубокой благодарностью она помянула Дьявола, в надежде, что, вырабатывая невосприимчивость к издевательствам, он хоть чуть-чуть сделал ее другой. Но кто знает, изменилась ли она, если прежняя стоит перед нею, и она помнит внутри себя каждое движение, переживая это состояние, на которое все ее нутро отзывалась болью и горечью.
Она видела черта со стороны, но будто в себе – и ужаснулась.
И снова почувствовала, что должен был чувствовать черт, будучи ею, ясно вспоминая окаменевшие взгляды людей, отринувших ее. Всеми своими обидами она не могла понять и сотой доли их состояния, когда проходила мимо. Она любила человека с не меньшей заботой, с какой человек начинал презирать ее такую. Она была не больше и не меньше человека, доброта и сердечность не оставляли ее ни на минуту, но боль, искалечившая ей жизнь, и мучители, которые пристраивалась рядом, ужасающие своей бессердечностью, открывались людям как мерзость, еще более пугающая, чем мерзость, которую черт открыл ей. Она вдруг с удивлением поняла, почему честные люди отстранялись сразу: сознание человека не способно выдержать ум земли, открытый темной стороной. Забитая насмерть земля отверзала уста, выдавливая из себя голоса и ее, и ее мучителей, и всех, кто пришел через открытые врата и остался в земле. Они всегда были рядом – тайно, как тать, угрожали, уговаривали и смеялись, затягивая любого в убогую круговерть – время для земли остановилось. Человек не слышал вампиров явно, но его потревоженное подсознание бежало прочь. А нечестный человек – испытывая внутреннее отвращение, пряча свой страх, не гнушался использовать ее руки, голову, как тот вампир, который благословлял его. Вампиры звали его, нечестивец как бы вступал в сговор с ее врагами, расположивая их к себе именно соучастием в преступлении. Да, ему странно везло, тогда как другие, не умеющие быть неблагодарными, умирали вместе с нею.
Читать дальше