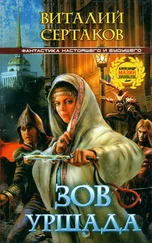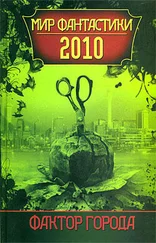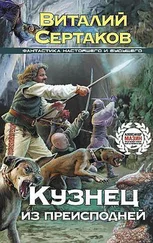— Хотя первоначально эта часть здания закладывалась как монастырский погреб и склад вина, здесь во времена трёх войн регулярно прятались партизаны, — отец Глеб шёл, мягко ступая по замшелым булыжникам. Леонид не видел лица священника, но ему показалось, что тот слегка посмеивается — то ли над собственным рассказом, то ли над гостем… — А во время революции повстанцы буквально не вылезали отсюда… Ты не находишь забавным, что ниспровергатели устоев во времена гонений охотно прячутся в храме?
— Я приезжал сюда дважды, — сказал учитель. — Когда-то давно, ещё ребёнком, меня привозил на экскурсию отец. А два года назад я приезжал сюда с женой и ребёнком, мы с дочкой залезали наверх… Мне бы в голову не пришло, что значительная часть комплекса укрыта от туристов. К чему такая секретность? Ведь церковь могла бы неплохо зарабо… — Гризли поперхнулся. — Я хотел сказать, что церковь могла бы собрать гораздо больше денег и направить их на что-нибудь полезное, если бы открыла для осмотра подвалы…
— Когда сто четырнадцать лет назад приняли решение, что монастыря здесь не будет, отпала надобность во многих постройках. Однако тогдашний настоятель был мудрый человек. Он сам пережил гонения, пострадал от смены властей и посчитал нужным закрыть доступ в подвалы…
— А как же вы… ты нашёл?
— А я не искал. Я четыре года прослужил в этом храме, и лишь после того как снискал доброе расположение прихожан, меня вызвали и посвятили…
— Посвятили в тайну? Ваши кардиналы?
— Неважно, кто, сын мой. Безусловно, есть люди, которым небезразлично, в чьих руках окажется история. Хотя тайны никакой нет. Есть желание сохранить нетронутыми наши скромные святыни.
Отец Глеб отворил последнюю дверь. Леониду открылся широкий зал с фресками на стенах, со сводчатым потолком и дымоходами. В глубине, на возвышении, потрескивала печь, вокруг спали дети. Много детей. Пожилая женщина ворочала в огне поленья.
— А где… где взрослые?
— Работают. Роют колодец. У нас мало времени на сон.
— Всё равно они доберутся сюда. Сколько лет ты планируешь отсиживаться?
— Мы не будем отсиживаться. Весной мы посеем кормовую свёклу и картофель, а скотина есть уже сейчас. Нам хватит прокормить человек триста, а к осени соберём турнепс и удвоим стадо…
— А, так вы, как и моя жена, верите в домашнюю кукурузу?
— При чём тут кукуруза? — искренне изумился священник.
— Как это «при чём»? — поразился Гризли.
— Соя не виновата, и кукуруза не виновата, — отмахнулся святой отец. — Это всего лишь растения. Неужели не понятно, что поток отравы пополз сюда гораздо раньше?
— Ты говоришь сейчас как телевизионный проповедник. Всё зло от золотого тельца, так? Идолопоклонники выкинули из храмов нашего бога и опрокинули наши светильники…
— Можешь смеяться сколько угодно, это твоё право. У тебя здесь нет только одного права — поносить других, ты понял? — В голосе отца Глеба неожиданно лязгнул металл. — А кукуруза… Всё началось гораздо раньше, чем в кино стали продавать попкорн. Попкорн стал дополнительной отравой, вот и всё. Знаешь, иногда мне кажется… — он примолк, щурясь на огонь. В его тёмных глазах плясали вечерние искры. — Иногда мне кажется, что мы опять неверно всё поняли.
— Кто мы? Всё человечество или попы?
— Все мы. Мы снова неверно поняли послание.
— А это было послание?
— Я слышу в твоих словах недоверие и насмешку. Недоверие — это твоё право, но мне сложно полемизировать с человеком, заранее считающим слова собеседника глупостью.
— Прости меня. Я не назло, это нервы. Просто церковь обожает окружать любые катаклизмы признаком божественной воли. Падает здание, где строители неверно рассчитали несущие конструкции, — знамение. Заболело стадо коров — знамение. Погибли от гриппа дикие утки — тем более знамение.
— Во многом ты прав. Но упомянутые примеры — это плоды деятельности слишком ретивых и не всегда умных людей. Ведь священники — это всего лишь люди, не стоит забывать об этом. Очень редко кого-то из тех, кто искренне верит, может коснуться благословение Его, тончайший луч света от ослепительного сияния престола. Но равным образом луч света небесного может коснуться и любого из мирян. Моя сутана никоим образом не пропуск в нелепый облачный рай, нарисованный кинематографистами. Моя сутана — лишь форма служителя, она не отгораживает тебя от меня. Напротив, она позволяет тебе быстрее найти в толпе людской человека, сознательно служащего свету.
Читать дальше

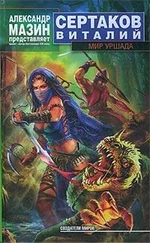

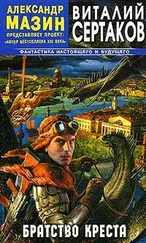

![Виталий Сертаков - Мастер Лабиринта [СИ]](/books/35134/vitalij-sertakov-master-labirinta-si-thumb.webp)