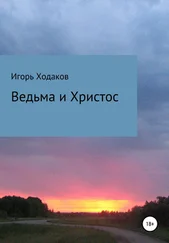А вечером он, не сказав ни слова, свернув постель и взяв ее в охапку, потопал спать в амбар. Мать только рукой махнула: пройдет, мол. Потоскует, да сызнова женится. Она уж и девок приглядывать начала. Да и вдов после Мировой да Гражданской в селе хватало.
Но вот только не «проходило». С месяц уж как вернулся-то, а спал по-прежнему в амбаре. И осунулся Иван еще больше, цвет лица землистый какой-то стал. Бородой неряшливой зарос. Неживой словно. Мать уже беспокоиться начала, пыталась отвлечь. Да никак. Сын только отмахивался. Между тем мужики потихоньку потянулись с войны. Пару раз приятели заявились к нему, так он не выходил. Те и приходить перестали, покумекав и решив, что Ваня умом тронулся от горя-то.
Мать чуть сон вовсе не потеряла. От смерти жены, ей не меньше полюбившейся, она уже оправилась. И то верно – раз смиренна да добра была, то Господь ей на небе покой даст. Потому-то она, мать-то, убиваться кончила, но лишь на время. Теперь вот за сына боится, что ж с ним будет?
Соседкам, подле родника встречавшимся, жаловалась не раз, ведь вон, какое дело: с войны только приехал, ему бы радоваться, да он с ума сходит. Ну померла Лукерья, что ж теперь поделаешь. Не ровен час пойдет куда-нибудь на Феклин Угол или на Марфину Яму, да с горя и утопится. Тут уж точно ему покоя не видать на Том Свете, коль самоубийством жизнь оборвет.
А еще ж люди-то место на Проне возьмут, да и прозовут Ивановой пучиной, аль еще как, вот уж и ей самой, матери-то, спокойной жизни со здоровым сном не видать, как кто-нибудь из соседских поминать энто место будет. Да еще навыдумают баек об энтом
случае: народ-то у нас на байки скорый. Или того хуже – поговорки да пословицы в ход пойдут, дескать: «Ты с ней, ну как Иван с Лукерьей!», «Сам же себе любовь губишь, потом спать не сможешь – Иваново твое горе!» И в том же духе. Вот история-то!
О-ох.
И это еще полбеды. Так он, коль утопится, покойником заложным станет. Тем, значит, кто раньше срока положенного помер. Такие, по поверьям народным, в русалок да леших превращаются. Шастают, ежели лешие, по ночам, или в омуте, коли русалки, каких бедолаг ждут и в пучину утаскивают. Вот страсть-то. От этих мыслей невеселых матери совсем нехорошо становилось. Соседи их с Иваном только жалели, а подсобить ничем и не могли.
А как-то вот ночью мать вышла на терраску – не спалось ей, и кошка, словно надурь, размяукалась; да услыхала мать голос в амбаре. Подошла, слышит, сын ее разговаривает с кем-то. Чуть кувшин с молоком не выронила – показалось ей, будто между предложениями все «Лукерьюшка» да «Лукерьюшка
» мелькает. Прислушалась, вроде как сам с собой. Только голос у него будто как прежний. Даже веселый. Наутро мать спрашивает:
– С кем же ты там говорил-то ночью?
Улыбнулся Иван в ответ какой-то страшноватой улыбкой. «Нездешней» – про себя решила мать. Помолчал, потупился, в бороду нечесаную пятерню запустил и ответил:
– С кошкой, – заикнулся как-то, посмотрел на мать странно так, – Да с кем же еще?
И снова улыбнулся. Жутчее прежнего. «С кем же ш не бывает?» – решила маманя. Сама ведь по вечерам тихим в пору войны-то от одиночества, как Лукерью схоронили, сидела у свечки да с кошкой беседовала. У ней глаза вон какие умные, да и люди поговаривают, что кошки и умом не малым обладают, и лечить по своему могут. И не «Лукерьюшка» он вовсе, небось, говорил, а «Лушенька» (кошку ведь Лушей звали); просто глуховата мать на старости лет стала.
У нее в памяти только после завтрака картинка проявилась, от которой мурашки по коже пробежались – на терраску- то ведь она вышла именно чтоб кошке молока в миску плеснуть. А та сама об ее ноги, в шерстяных носках, все терлась и урчала. Мать бегом к брату мужа своего покойного – Дмитрию. Так и так, Иван совсем тронулся – с женой покойной по ночам разговоры ведет. Делать-то что?
Сговорились, что Дмитрий как-нибудь у них переночует. Ну и решили выведать: с кем Иван там общается-то. И вот пришел как-то Дмитрий. Что-то там по хозяйству вроде как помочь. Посидели вечером, да и спать улеглись, а ночью мать да Дмитрий к амбару подкрались. Слушают. И взаправду Иван с кем-то разговаривать начал. Его-то голос хорошо слышен, а вот того, с кем, значит, он ночью темной общается – нет. Изловчился Дмитрий, да у той стены, у которой стог сена стоял и в котором Ваня почивать собирался, на ящики да бочонки старые взобрался. И сумел-таки дыханием себя не обнаружить. Всю ночь мать с Дмитрием подле амбара так просидели. Только под утро ушли.
Читать дальше