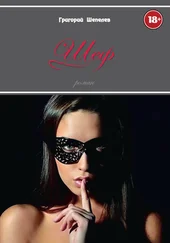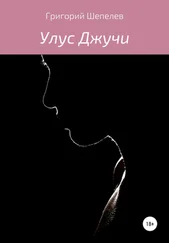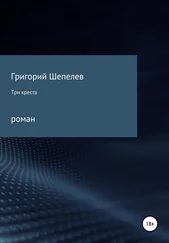– Да, из ординаторской.
– Хорошо, сиди пока там.
В трубке зазвучали гудки. Положив её, Юля машинально взяла из лежавшей на столе пачки «Мальборо» сигарету и закурила. Её опять всю трясло. Она совершенно не представляла, что теперь делать. С Анькой уже ни о чём не договоришься. С ней уж никто никогда ни о чём не договорится. Она ушла. Её нет. И больше не будет. Погасив сигарету после одной затяжки, Юля из-за плеча взглянула на Аньку. Анька стонала, мотая головой по подушке. Голубоглазая стерва уже наполняла шприц. Бородатый доктор, бесцельно щёлкая зажигалкой, рассказывал:
– Ровно в два звонят из милиции. лежит, спрашивают, у вас такая-то? Да, лежит, говорю. Они попросили её позвать, сказав, что к чему. Я за ней сходил. Она взяла трубку, десять секунд послушала, а потом зашлась визгом, трубку отбросила, и – давай всё крушить! Я с ней бы не справился. Хорошо, два парня из туалета шли – услышали, прибежали и помогли мне её скрутить. Один помчался за Светкой.
– Я кое-как штаны натянула жопой на перед, про туфли вовсе забыла и понеслась за алпразоламом! – весело подхватила Светка, держа в одной руке шприц, в другой – сигарету, – потом сюда прибегаю, а тут – такое! Мебель вся перевёрнута, документы все на полу! Хорошо, посуда каким-то чудом цела осталась, я босиком бы тут вся изрезалась!
Зазвонил телефон. Кременцова судорожно схватила трубку.
– Алло! Алло!
– Соболезную твоей Анечке, – виновато проговорила Инна Сергеевна, – её мама шею себе сломала.
У Кременцовой перед глазами всё покачнулось.
– Как? Расскажите!
– Она в час ночи зачем-то вышла на лестничную площадку. Там, видимо, оступилась и покатилась вниз по ступенькам. Смерть была моментальной.
– Её никто не толкнул?
– Откуда ж я знаю, Юлечка? Тело обнаружил сосед, который решил погулять с собакой. Он утверждает, что рядом никого не было. У неё в квартире, вроде, всё цело. Больше я пока ничего не могу тебе сообщить.
– Большое спасибо, Инна Сергеевна.
– Не за что. Поправляйся. На процедуры ходить! Я проверять буду.
Положив трубку, Юля изо всей силы стиснула голову кулаками, надеясь, что она треснет. Кулакам стало больно, голове – нет. Доктор встал и вышел. Видимо, он подумал, что Кременцова будет реветь. Но он ошибался. Не было слёз у Юли. Лишь человек без сердца может заплакать, вдруг обнаружив себя в ночи, о которой сказано: «… Ночь та! Да обладает ею мрак, да не сочтётся она в днях года, да не войдёт в число месяцев! О, ночь та! Да будет она безлюдна, да не войдёт в неё веселье, да проклянут её проклинающие день, способные разбудить Левиафана! Да померкнут звёзды рассвета её! Пусть ждёт она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы – за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих!»
– Ты что, её знала? – спросила Светка, куря и следя за Анькой, которая продолжала стонать. Руки Кременцовой повисли.
– Кого я знала?
– Ну, её маму!
– Разве я плачу?
– Ты вся дрожишь.
– Так это естественно! У меня – гангрена.
Сказав так, Юля тяжело встала и подошла к диванчику, на котором лежала Анька. Лицо у той было бледное, мокрое, кое-где прорезанное углами гримасных складок. Не открывая глаз, она тихо плакала и шептала: «Мамочка, мамочка!»
– Не надо больше её колоть, – попросила Юля. Медсестра усмехнулась.
– А мебель новую и посуду ты, что ли, купишь?
– Она не будет больше буянить. Она уже догорела. Ты что, не видишь?
– Не вижу, – холодно бросила медсестра, но шприц отложила.
– Выйди отсюда, – сказала ей Кременцова, глядя на Аньку. У медсестры изогнулись брови.
– Вот это номер! Что значит – выйди? Я, кажется, на работе! Ты не имеешь права так со мной разговаривать.
Кременцова бухнулась на колени. Светка вскочила. Её лицо сделалось беспомощно-оскорблённым.
– Да это… это не гнойная хирургия, это психушка какая-то!
И немедленно убежала, захватив шприц. Взяв Анькину руку, Юля поцеловала её.
– Прости меня, Анька! Нет, не сейчас, сейчас – невозможно! Потом, когда-нибудь – не здесь, там… Прости меня, ангел мой!
– Мама, мама, мама, – ласково повторяла Анечка. Уже именно ласково, а не сдавленно. Перед ней, должно быть, мелькала вся её жизнь. А Юля вдруг зарыдала, уткнувшись носом в линолеум и вцепившись руками в волосы. Что за ночь! Обычная ночь. Месяц – пастушок, а звёзды – овечки. Туман – животное, очень доброе, но ворчливое. Как не плакать? Как не разбить себе нос об этот линолеум? Лоб – нельзя, потому что Анька пока жива, а нос – вполне можно. И на линолеум заструилась кровь – безвольная, безответная. Вот же мразь! Скажешь ей – теки, и она течёт, да так незаметно! Даром, что кровь.
Читать дальше