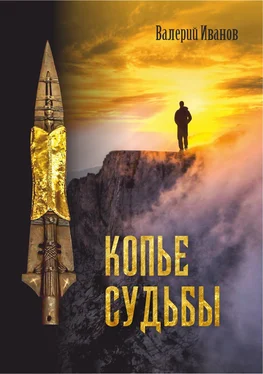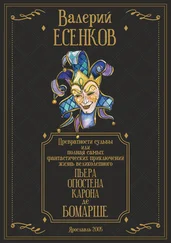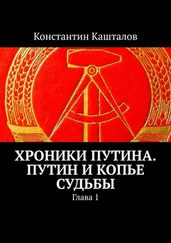Василий ползком подобрался поближе, приготовился бить прикладом СВТ.
Гришка Гуськов сидел на корточках, ворчал и чавкал, как собака. Правое плечо его дергалось, он что-то резал, тряслись поднятые кверху уши шапки-ушанки.
– Гриша!
Гуськов схватил со снега винтовку, обернулся – в одной руке нож, в другой – японская «арисака». Рыжая борода слиплась клейким клином. В снегу у ног его ничком лежало обугленное тело. Обгорелые ягодицы походили на вареные свеклы. Разрезы в них сочились сукровицей. Гуськов держал нож в кулаке, как скорняк, лезвием книзу.
Уронив тесак, людоед передернул затвор винтовки, вскинул к плечу, узнал Василия – глаза заметались… ничего не мог сказал с полным ртом… стал быстро дожевывать… присел, нащупал ломоть мяса, протянул.
– Куфай!
За людоедство в отряде расстреливали. Василий понял: если не станет «куфать», Гуськов его убьет. Выбора не было. Как в той теснинке на чаире, когда Нина приказала себя задушить.
Подул ветер, и заснеженный лес ожил – с веток взлетели и заколыхались черные траурные ленты.
У Василия волосы зашевелились на голове: Нина плыла в извивах похоронных лент, не касаясь земли, – бледная, строгая, в фуфайке под ремень, в кирзовых сапогах. На шее – синенький скромный платочек. Только глаза – нечеловеческие, такие у кошек бывают – светлые, будто слюдяные.
«Жуков, закрой глаза, открой рот».
Он послушно открыл рот.
Очнулся от чавкающего звука. Не сразу понял, что это его челюсти так громко жуют в зимней тишине горного Крыма. На зубах хрустнул уголек.
Перестал жевать.
«Этого» не могло быть.
Но это случилось…
Расшатанные цингой зубы разжевывали пахнущую бензином человеческую плоть.
Ветер полоскал траурные ленты на деревьях. Их было много, весь сожженный лагерь колыхался муаровой бахромой.
– Гриш… это ты сделал?
– Что?
– Ты убрал могилу?
– Где?
– Вот. Это же похоронные ленты. Где ты их взял?
В белом безмолвии бились на ветру черные ленты.
– Это бинты, Вася. Их тут санитарки стирали и вешали сушить. Они от копоти почернели. Ты кушай, не обращай… Нам еще жить и воевать, а им уже все равно…
– Ты Нину видишь? – Василий глядел перед собой в одну точку.
Гуськов заглянул другу в стылые глаза.
– Нету тут никакой Нины… Ты кушай, давай, это тебе с голодухи мерещится.
Временами сознание уплывало.
Вроде не он это, не Васька Жуков, а кто-то другой кушает тело сожженного фашистами партизана.
Нет, он.
А где Нина? Вот она. Стоит, смотрит слюдяными глазами. Только не платочек у нее на шее, а расплывшиеся синяки от его пальцев.
«Жуков, ты чего творишь? Ты зачем Толю кушаешь?»
Василий поперхнулся, попятился. Сосны пошли хороводом и вдруг резко задрались к небу.
«Мальчики, давайте поклянемся, что бы ни случилось, сохраним нашу школьную дружбу и навсегда запомним этот день!»
«Ты чего, Вась, сомлел?»
Гуськов – жирнобородый, черноротый – протягивает кусок мяса, очищенный уже от пригорелой корки. Жуков отворачивается.
– Противно без соли, – понимает Григорий. – Погоди.
Выщелкнув из «Арисаки» патрон, он зубами раскачивает и выдирает пулю, посыпает мясо серым зернистым порохом. Порох отбил сладкий привкус человечины, – пресная, с запахом бензина буженина стала приятно горчить.
Снег припорошил штабель тел, засыпал безобразно разинутые рты. Обугленный Толя Колкин сделался белый, будто его покрыли простыней на хирургическом столе, оставив открытой для операции только худенький зад.
Осоловевший Гуськов смахнул снежок с еще нетронутой ягодицы и принялся надрезать ее по обводу.
С отвычки напала икота, усохший желудок выплеснул в рот едкую отрыжку, и Вася Жуков почуял всей пастью своей позорной, совестью своей волком взвывшей – дух тела худого очкастого Тольки.
Упал на колени, выблевал в снег съеденное.
Гуськов покачал головой. «Харч метать – последнее дело в лесу».
Василий набивал и набивал рот снегом, чтобы никто не услышал его рыданий.
Когда занемели челюсти, поднялся.
– Хватит жрать! Он сырой внутри, заболеешь.
– Горячее сырым не бывает, – голос Гуськова сделался блаженно басистым от сытости. – Если че, потом можно и дожарить… Отрежу про запас, все одно его тут лисы поедят…
– Похоронить их надо… – кивнул Василий на лазарет.
– Их пущай начальство актирует, – Гуськов паковал строганину в сидор. – Чистяков протокол составит, он без бумаг жить не может, опись, как положено, тогда и закопаем. Нам чего голову ломать, за нас Лобов думает, у него голова большая, а вот этого, да, закопать бы надо. Кого хоть кушали?
Читать дальше