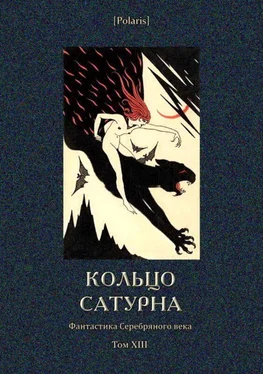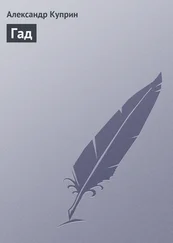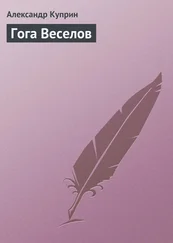— И вот, — заговорил наставник, принимая от меня телеграмму, — вот так неожиданно и, увы, поздно пришли к нему и слава, и богатство, и комфорт, и улыбки женщин.
Нет, нет, он остался бы к ним равнодушным. На эти побрякушки он глядел сверху вниз. Я почти насильно оторвал у него партитуру, чтобы послать ее моим лондонским знакомым, и вдруг ироническая шутка бессмысленного рока и — конец. Но услышать свою оперу в прекрасном исполнении, руководить лучшим оркестром в мире и воссоздать в душах артистов и внимательных зрителей свои великолепные образы, да, это для него была бы большая радость. И я думаю, что буду прав, сообщив ему эти несколько слов, и я почти уверен, что на короткий или, почем знать, может быть, и на очень долгий срок к нему вернется то, что я называю волей к жизни. Теперь идемте, друзья мои.
Все они молча поднялись наверх. Все, кроме меня. Я сказал с той откровенностью, которую так любил наш учитель:
— Позвольте мне не идти, дорогой наставник. У меня совсем нет боязни, но что-то, что сильнее меня, побуждает меня остаться.
Он ласково положил мне руку на плечо (единственный интимный жест, который я у него видел за все время нашей близкой связи) и ответил спокойно:
— Да. Благодарю вас, что вы так правдивы. Идите спокойно и, если вам не трудно, думайте минут десять-пятнадцать обо мне. Не нужно никаких усилий, только постарайтесь себе вообразить мое лицо, одежду, глаза и руки.
Он медленно поднимался со ступеньки на ступеньку и, наконец, вошел в открытую дверь. Последнее, что я видел, был синеватый туман от ладана и так же ясно расслышал четкий, немного гнусавый, певучий голос монахини: «Кая житейска радость бывает печали и причастна».
Все, что случилось там, наверху, в комнате, я поневоле передаю сжато и как бы скомкано, с чужих слов. Учитель попросил чтицу уйти. Сделал это он со свойственной ему всегда мягкостью и деликатностью, но все мы знали, что иногда его просьба равнялась самому безусловному приказанию. Затем, обняв обеими руками голову своего друга и так низко склонившись над ним, что почти прикасался устами к его уху, он трижды, с каждым разом возвышая голос и вкладывая в него громадную убедительность, сказал текст телеграммы. И вот, медленно раскрылись веки, показались мертвые, незрячие глаза, открылись, вздрагивая, губы, напряглись мускулы горла, и все семеро услышали голос, произнесший хрипло, точно сквозь подушку:
— Дайте… спать…
И тотчас же его лицо исказилось омерзительной и ужасной гримасой. Это было только на одно мгновение, но было так страшно, что шестеро учеников закрыли лица руками, и только учитель остался неподвижным. Прошло довольно много времени, пока он не обернулся к пораженным людям и сказал:
— Теперь вы можете смотреть.
И они увидели, как он любовно перекрестил лицо мертвого и поцеловал его лоб. И когда они приблизились к покойнику, то увидели на его губах счастливую блаженную улыбку бесконечного покоя.
Учитель умер на другие сутки от сердечного припадка. Остальные ушли из жизни как-то трагически быстро, один за другим, через короткие промежутки. Некому восстановить нашего общества. Остался один я. Да и я бы никогда не решился идти по следам учителя в этих сверхчеловеческих опытах. Теперь я не только верю, но и убежденно знаю, что мертвые живут. Но заглядывать туда, за грань перехода — современному человеку или еще слишком рано, или никогда не следует.
Было все, о чем здесь я правдиво рассказал, 8-го декабря 1913 года.
… Guignol — гиньоль, театральное направление, характерными чертами кот. была установка на зрительский шок, насилие и ужасы (от назв. основанного в 1897 г. парижского театра хоррора Grand-Guignol).
… «Лесть богатства… Слово» — Мф. 13:22 в церковнослав. версии, в синодальной: «Забота века сего и обольщение богатства заглушает слово».