С минуту папа улыбается грустно-грустно, но затем запевает – запевает во весь голос. Тот самый медово-вкрадчивый перекатистый голос, что так мне памятен. Потом к нему присоединяется тетя Ина – слегка не попадая в тональность, но кому какое дело! Кошусь на Джесса – подтягивает и он, или просто артикулирует губами.
И чердак – эта камера пыток, стыда и боли, этот склеп, стоявший опечатанным долгие годы, словно озаряется нашей песней, нашими голосами и нашим упованием.
Я улечу,
И когда я умру, аллилуйя,
Я улечу [84] Перевод М. Иванова.
.
Всем людям, наверное, этого хочется – в один прекрасный день взять и улететь из этой юдоли скорбей. Большинству это удается только после смерти, после освобождения от цепей плоти, приковывающих их ко всему земному. Но в песне «Я улечу», мне кажется, надежда и мечта более глубокая и ясная – на то, что от теней и печалей можно избавиться еще на этом свете.
Можно улететь к высям Жизни, а не упокоения.
И сама жизнь есть не только медленное нисхождение в могилу.
Мы можем улететь . Мы умеем летать.
Я думаю о Седаре, Орландо, Саре, маме и Хани. О Джессе и тете Ине, поющих со мною бок о бок. О самых любимых моих людях. О единственных, кто у меня остался.
И они придают мне сил: когда я чувствую, как сюда, к нам на чердак, вползает Черный Человек – с душою черной и гудящей тревогами, как улей осами, с мыслями, полными тлена и гнили, как старые доски этого дома, – во мне больше нет страха. Ведь он тоже, наверное, вынужден виться здесь против собственной воли и понимает, ощущает, как темные его чары, власть его злой воли слабеют. Но он здесь – лишь потому, что мы здесь, потому что папа и тетя Ина долгие годы просто… не отпускали его, позволяли оставаться поблизости и отравлять своим ядом нас с Джессом.
Все певцы умолкают, но я продолжаю играть, твердой рукой водить смычком по струнам.
Недостаток страха в каждом из нас явно злит Черного Человека. Помещение наполняется шумом дождя, вспышками молнии и раскатами грома прямо под потолком. Голос потустороннего монстра вихрем завивается вокруг нас, словно зимний ветер в соснах, глубокий, леденящий:
– Ты лжец, Уильям, ты всегда был лжецом и лицемером. Давай расскажи своим детям, как это случилось на самом деле. Что ты сделал. И на кого свалил вину. Я знаю наперечет все мысли в твоей голове, каждую тайну твоего сердца. Ты всех их доверил скрипке, а она скормила мне. Я знаю, кто ты есть. Это ты должен был гнить в тюрьме, а не я.
И тут ползучий липкий страх все же охватывает меня, словно сотни ос перебирают ножками по коже. Что такое он говорит? Неужели папа как-то причастен к смерти Брэнди?
Да нет, не может быть. Разумеется, нет! Черный Человек обманывает, манипулирует нами, нельзя доверять ни единому его слову.
– Разве не об этом поется в твоей песенке? – ухает чудище и вдруг срывается на насмешливый фальцет, жалкий, испуганный, детский: – Прости, я виноват, прости !
Внезапно ловлю себя на мысли, что играю уже не «Я улечу», а снова – папин погребальный плач по Брэнди. Мелодия льется из скрипки, и по мере того, как она крепнет, звучит все уверенней, усиливаются также ливень и ветер, а молнии, словно снаряды, разрываются то справа, то слева в двух шагах. И вот мы уже не на чердаке, а где-то совсем в другом месте, в пространстве воспоминаний, что ли? Или внутри песни, только не знаю, какой именно. В общем, как во сне.
Начинается все с крика, долгого, прямо-таки бесконечного, оглушительного крика, душераздирающего, невыносимого. Он пронзает меня насквозь, прожигает до костей. Крик этот и «запустил» когда-то страшную эпоху в истории нашей семьи.
Затем вижу распростертое на столе тело маленькой девочки, сплошь покрытое осиными укусами. От былой красоты остались только длинные светлые волосы – остальное изуродовано. Бледную, словно водянкой раздутую, жалкую фигурку накрывает собой безутешная мать. Рядом стоит маленький Уильям, на лице его застыло жесткое выражение, а в груди, невидимая, уже поднимается черная, горемычная, безжалостная ненависть – к себе и к отцу. Тонкие руки, сжатые в кулачки, опущены по швам.
Прости, я виноват, прости, – завывает скрипка. Все это время она стенала об этом – без слов, но совершенно отчетливо. И как я только не разобрала? Я виноват .
Там, на чердаке, частью еще доступном моему зрению, у папы сжимаются челюсти. Вид у него – совсем как у Джесса, когда я спросила его, чем он заслужил тюремное наказание, – сердитый и пристыженный одновременно.
Читать дальше
![Эрика-Джейн Уотерс Песнь призрачного леса [litres] обложка книги](/books/430226/erika-dzhejn-uoters-pesn-prizrachnogo-lesa-litres-cover.webp)


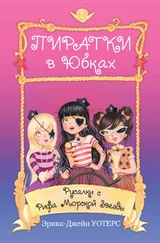
![Дéнис Уоткинс-Питчфорд - Гномы Боландского леса [litres]](/books/389037/denis-uotkins-thumb.webp)
![Александра Черчень - Академия Западного леса [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/392531/aleksandra-cherchen-akademiya-zapadnogo-lesa-si-lit-thumb.webp)
![Трейси Батист - Джамби, духи леса [litres]](/books/399610/trejsi-batist-dzhambi-duhi-lesa-litres-thumb.webp)
![Джейн Портер - Заманчивая свадебная клятва [litres]](/books/401312/dzhejn-porter-zamanchivaya-svadebnaya-klyatva-litres-thumb.webp)
![Элисон Уэйр - Джейн Сеймур. Королева во власти призраков [litres]](/books/405981/elison-uejr-dzhejn-sejmur-koroleva-vo-vlasti-prizr-thumb.webp)
![Рина Росснер - Сестры зимнего леса [litres]](/books/407925/rina-rossner-sestry-zimnego-lesa-litres-thumb.webp)
![Евгений Шалашов - Призраки Черного леса [litres]](/books/421923/evgenij-shalashov-prizraki-chernogo-lesa-litres-thumb.webp)
![Элеонора Девильпуа - Дочь леса [litres]](/books/433975/eleonora-devilpua-doch-lesa-litres-thumb.webp)
