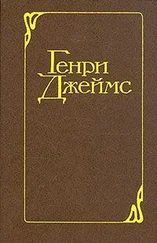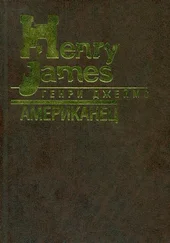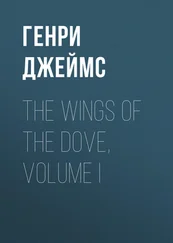Именно с этих пор он начал обретать для себя источник силы и тонкого наслаждения и даже каких-то, казалось бы, несоразмерных со здравым смыслом тайных и потрясающих волнений в той особой форме подчинения своей одержимости, которая у него к этому времени сложилась; и, соответственно, он, чем дальше, тем чаще, стал прибегать к этой своей способности, считая ее теперь огромным преимуществом.
В эти последние недели он, собственно, только ради того и жил, ибо настоящая жизнь в его восприятии начиналась лишь после того, как миссис Мелдун удалялась со сцены, и он, обойдя весь просторный дом от чердака до подвала и убедившись, что он здесь один, чувствовал себя наконец полным хозяином; и тогда, по собственному его молчаливому определению, он отпускал поводья. Ему случалось иногда приходить и два раза в день. Из всех дневных часов он предпочитал тот, когда по углам уже копится темнота — короткие осенние сумерки; это было то время, на которое он больше всего — опять и опять — возлагал надежды. Тогда он мог, как ему казалось, более дружественно бродить и ждать, медлить и слушать, чувствовать свое сторожкое внимание — никогда еще оно не было таким сторожким! — на пульсе огромного, уже темнеющего дома; он любил этот час, когда еще не зажигают ламп, и жалел только, что ему не дана власть сколько-нибудь продлить эти тускло-сумеречные минуты. Позже, обычно ближе к двенадцати, он приходил опять, но на этот раз для довольно долгого бдения. Он совершал обход со своим мерцающим светильником, шел медленно, держал его высоко, чтобы свет падал как можно дальше, и больше всего радовался, когда открывалась какая-нибудь далекая перспектива — анфилада комнат или переходы и коридоры, — длинная прямая дорожка, удобный случай показать себя для тех, кого он как будто приглашал явиться. Оказалось, что он мог свободно предаваться этим занятиям, не вызывая ничьего любопытства; никто о них даже не догадывался. Даже Алиса Ставертон, которая к тому же была идеалом такта, полностью их себе не представляла.
Он входил и выходил со спокойной уверенностью хозяина, и случайность до сих пор ему благоприятствовала, так как если толстый постовой с Проспекта и видел иной раз, как он приходил в половине двенадцатого, то, во всяком случае, насколько Брайдону было известно, никогда еще не видел, как он уходил в два часа ночи. В ноябрьской ночной прохладе он совершал свой путь пешком и регулярно появлялся здесь к концу вечера, и это ему так же нетрудно было осуществить, как после обеда в гостях или в ресторане пойти в свой клуб или в гостиницу, где он остановился. А если он обедал в клубе и уходил попозже вечером, то всякому было ясно, что он идет к себе в гостиницу; если же он выходил, проведя большую часть вечера у себя в гостинице, то, совершенно очевидно, только для того, чтобы пойти в свой клуб. Одним словом, все было легко — все было в заговоре с ним, все помогало и способствовало; даже в напряженности его ночных бдений было, видимо, что-то такое, что смазывало, сглаживало, упрощало всю остальную жизнь его сознания. Он встречался с людьми, разговаривал, возобновлял, любезно и непринужденно, старые знакомства, даже старался, насколько мог, оправдать новые ожидания, и, в общем, как будто приходил к выводу, что — независимо от его карьеры и всех этих разнообразных связей, о которых он говорил мисс Ставертон, что они нимало ему не помогают, — тем своим новым знакомцам, что наблюдали за ним, возможно поучения ради, он, во всяком случае, скорее нравился, чем наоборот. Он положительно имел успех в свете — неяркий и второстепенный — и преимущественно у людей, которые о нем прежде и понятия не имели. Все это были поверхностные звуки — этот гомон приветствий, эти хлопки их пробок, так же как его ответные жесты, были всего лишь причудливые тени, тем более выразительные, чем меньше значимые, — в игре des ombres chinoises. [3] Китайских теней (фр.).
В мыслях он весь день то и дело перемахивал через этот частокол деревянных тупых голов в ту другую, реальную жизнь, жизнь ожиданья, которая, чуть только щелкал за ним замок парадной двери, начиналась для него в «веселом уголке» столь же обольстительно, как медленные вступительные такты какой-то дивной музыки начинают звучать тотчас же после удара о пюпитр дирижерской палочки.
Он всегда ловил первый звук, встречавший его в доме, — цоканье металлического наконечника его трости о старый мраморный пол в холле — эти огромные черно-белые квадраты, которые, он помнил, так восхищали его в детстве и так помогли тогда, теперь он это понимал, раннему развитию у него чувства стиля. В этом цоканье ему мерещился тусклый отзвук какого-то иного звона, дальний голос колокольца, подвешенного — кто скажет где? — в глубине дома, в глубинах прошлого, в том мистическом другом мире, который мог бы расцвести и для него, если бы он — к добру или к худу — сам его не покинул. И тут он делал всегда одно и то же: бесшумно отставлял трость в угол и весь отдавался ощущению дома как огромной хрустальной чаши — огромного вогнутого кристалла, который полнится тихим гулом, если провести мокрым пальцем по его краю. В этом вогнутом кристалле был, так сказать, заключен весь тот мистический другой мир, и для настороженного слуха Брайдона тончайший гул его краев — это был вздох, пришедший оттуда, едва слышный горестный плач отринутых, несбывшихся возможностей. И теперь он своим безмолвным присутствием обращал к ним призыв, пытаясь пробудить их к жизни, к той степени призрачной жизни, какая еще могла быть им доступна.
Читать дальше