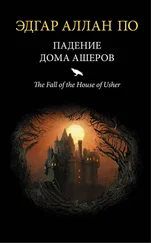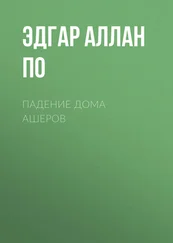Король поднял брови, от чего лоб его покрылся бесчисленными морщинами; подагрический старичок засопел наподобие кузнечных мехов; чахоточная барышня помавала носом; господин в бумажных панталонах навострил уши; дама в саване принялась ловить ртом воздух, как издыхающая рыба; а обитатель гроба еще более окостенел и завел глаза.
– Хе! хе! хе! – засмеялся Брезент, пренебрегая всеобщим волнением. – Хе! хе! хе! – хе! хе! хе! хе! – хе! хе! хе! – я говорил, – сказал он, – я говорил, пока мистер Король Чума не начал встревать, что двумя-тремя галлонами черного жгута больше или меньше для такого крепкого суденышка с неперегруженными трюмами вроде меня – пустяк, но ежели дело дошло до того, чтобы пить здоровье Дьявола (накажи его господь) да ползать на коленях перед этим королишкой – а ведь доподлинно, как то, что я грешник, я про него знаю, что он не кто иной, как Тим Баламут, актерщик! – так это дело совсем другого сорта и вовсе свыше моего разумения.
Ему не дали спокойно договорить. При имени Тима Баламута все повскакали с мест.
– Измена! – закричал его величество Король Чума Первый.
– Измена! – сказал подагрический человечек.
– Измена! – завопила эрцгерцогиня Чумичка.
– Измена! – пробормотал господин с подвязанной челюстью.
– Измена! – пробурчал обитатель гроба.
– Измена! Измена! – заверещала ее большеротое величество; и, схватив сзади за штаны несчастного Брезента, который только начал наливать себе еще, она подняла его высоко в воздух и без лишних церемоний бросила в огромную разверстую бочку любимого им эля. Несколько секунд он то всплывал, то погружался, как яблоко в пуншевой кастрюле, и наконец исчез в водовороте пены, которую ему легко удалось поднять, барахтаясь в напитке, и без того пенном.
Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный – такой бешеный – такой напористый – что комнату затопило от стены до стены – нагруженные столы перевернулись – козлы попадали – ушат с пуншем был повергнут в камин – а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги с маху налетали на битые бутылки. Страдавший «ужастями» моментально утонул – окостеневший господин отплыл в своем гробу – победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямиком пустился к «Беззаботной», а за ним на всех парусах следовал бесстрашный Хью Брезент, который два-три раза чихнул, а теперь пыхтел и задыхался, волоча за собою эрцгерцогиню Чумичку.
1835
Морелла [20] © Перевод. И. Гурова, наследники, 2002
Άντο χατ' αντα, µετ' αντον µονοειδεζ αιει ων [21] Собой, только собой, в своем вечном единстве (гр.).
.
Платон. Пир, 211
Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым; однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.
Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума – велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эдгар По Падение дома Ашеров [сборник] обложка книги](/books/30677/edgar-po-padenie-doma-asherov-sbornik-cover.webp)