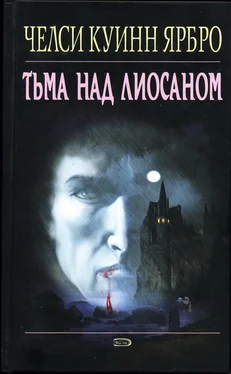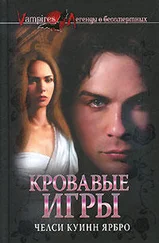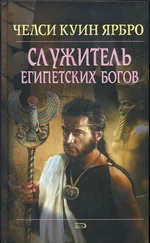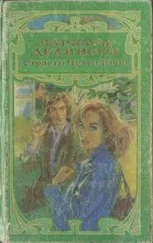Выходя из кельи, брат Гизельберт ощущал себя опустошенным и в большей мере хотел спать, чем плести корзины, исполняя предписанную работу, а потому звон колокола, скликавший братию к ужину, его даже порадовал, хотя ему давно уже надоели хлеб, рыба и густая гороховая похлебка, что составляло здешнюю ежевечернюю снедь. Иное дело — баранина или свинина. Но мясо являлось одним из тех удовольствий, от которых он отказался, распрощавшись как со своим титулом, так и со всей мирской жизнью. Монах, упрекнув себя в слабости, потупил взор и увидел на голой земле разметанные веером птичьи перья: их было около полудюжины — все темные, с красноватыми просверками, как и подол его раздуваемой ветром сутаны. Еще одно дурное предзнаменование, в том можно не сомневаться, подумал он, преклоняя колени перед дверями в трапезную, где стояли длинные грубо сколоченные из толстых досок столы.
Монахи молча, склонив головы, занимали свои места. Кроме шарканья ног и скрипа скамей тишину нарушало лишь отдаленное песнопение. Двое новых послушников разносили еду, ставя перед сидящими деревянные доски с хлебом и жареной рыбой, а также миски с варевом из гороха и ячменя. Помимо того на каждом столе стояли большие кувшины с медовым напитком. Передавая их из рук в руки, монахи с тихим побулькиванием наполняли деревянные кружки. Когда все эти приготовления закончились, послушники пали ниц, слушая, как их новообретенные братья бубнят благодарственную молитву, после чего удалились, чтобы приготовить еду для певчих, служивших вечерню. Как только они ушли, брат Хагенрих прошел в центр трапезной и начал читать поучение. Темой его в этот раз были муки Ионы во чреве кита. Монахи внимательно слушали старшего брата, словно бы нехотя поглощая свой ужин, дабы избежать обвинения в чревоугодии — одном из смертных грехов.
Когда поучение завершилось, подошла к концу и трапеза. Наелись монахи досыта или нет, не имело значения — им волей-неволей пришлось подняться со своих мест и выйти на обегавшую монастырский двор террасу, чтобы спокойной прогулкой по ней подготовить себя к исповеди, обычно проводившейся перед самым закатом, после чего наступало время всенощных песнопений.
Брат Гизельберт размышлял над тайным смыслом явленных ему зловещих предзнаменований, когда его нагнал брат Олаф, размахивая костылем и припадая на поврежденную ногу.
— Да хранит тебя Господь, достойный брат, — произнес он, чуть задыхаясь.
— Как и всех истинных христиан, — откликнулся брат Гизельберт с некоторой настороженностью, ибо братья-привратники обращались к своим сотоварищам очень нечасто и в основном для того, чтобы сообщить о чем-то дурном. — Что привело тебя сюда?
— Твоя сестра здесь и хочет с тобой говорить, — ответствовал брат Олаф.
— Моя сестра? — озадаченно переспросил брат Гизельберт, ибо ожидал Ранегунду не ранее чем через месяц. Охваченный недобрым предчувствием, он перекрестился. — Она объяснила, в чем дело?
— Сказала только, что дело срочное, — проворчал брат-привратник.
Такой ответ был наихудшим из всех возможных.
— Где она? — спросил брат Гизельберт, стараясь по обычаям ордена быть предельно немногословным.
— В комнате для приемов. Просила прощения за то, что обеспокоила нас. — Брат Олаф наклонил голову, хотя выражение его лица свидетельствовало скорее о раздражении, нежели о смирении. — Я даже не взглянул на нее, но сразу узнал.
— Господь воздаст тебе за твое целомудрие, — отстраненно пробормотал брат Гизельберт. — Я должен ее увидеть.
— Брат Хагенрих не одобрит этого. Тебе придется сознаться на исповеди в грехе непослушания. — Брат Олаф нахмурился, старательно оправляя свою сутану, ибо ветер, дувший от моря, крепчал.
— Я должен, — повторил брат Гизельберт и решительно зашагал к сторожке.
В приемной комнате горела одна коптилка, освещавшая красочное изображение Христа в пышных византийских одеждах. Раны на руках и ногах Спасителя источали сияние, изрядно, впрочем, поблекшее от постоянного чада.
Ранегунда, закутанная в длинную накидку цвета сосновой хвои, стояла перед изображением на коленях, но тут же поднялась на ноги, положив руку на эфес поясного кинжала.
— Храни Господь тебя от всех бед, Гизельберт, — сказала она, приподнимая в знак уважения край своего одеяния.
Ее грубо стачанные, но добротные сапоги доходили до икр. Брат и сестра были удивительно схожи — оба высокие, мускулистые, сероглазые, — но в облике Ранегунды к ее двадцати пяти уже стали проступать первые признаки зрелости, каких еще не имелось в чертах Гизельберта.
Читать дальше