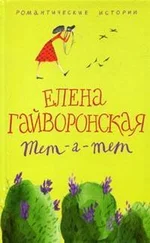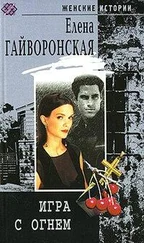Она же опять покосилась на Равви, который о чём-то увлечённо толковал с хозяином.
– Он легко находит язык с кем угодно. – Поделился я своим наблюдением.
– В этом его талант, – ответила Магдалин, подавив, как мне почудилось, невольный вздох. – Когда ты с ним говоришь, кажется, что нет человека ближе и понятнее, но вдруг ощущаешь невидимую преграду. И что за ней, известно только ему одному…
Я сказал, что, наверное, у каждого есть потайной сундучок, отпирать который не разрешается никому, иногда даже самому себе. Только у одних он размером с напёрсток, а у других – с бабушкин комод.
Вообще-то я предпочёл бы найти иную тему для беседы. Отчего-то меня задевало, что все её мысли и разговоры сводятся к Равви, будто вокруг никого и ничего больше не существует.
Краем уха выхватил рассуждения о небывало жаркой весне, взметнувшихся ценах, грабительских налогах, сплетни о чьих-то изменах, свадьбе и похоронах. И меня посетила странная идея: если закрою глаза, легко смогу вообразить себя на московской тусовке. Удивительно: каждый из нас живёт с чувством, что делает всё набело, впервые, но, оказывается, всё уже было, и даже не сто, а тысячи лет назад. И ничто не ново, кроме его собственного опыта, который не значит ровным счётом ничего. Словно в подтверждение этой догадки кто-то притащил чудной музыкальный инструмент, нечто среднее между арфой и гуслями, и принялся бренчать. Бренчал нудно и фальшиво, как исполнитель в третьесортном московском баре.
– Лучше бы он не играл, – заметил я.
Магдалин улыбнулась и снова посмотрела в сторону Равви. Тот продолжал беседу, в которую включилось ещё несколько человек. Они о чём-то спорили, отчаянно жестикулировали. А доморощенный менестрель терзал инструмент и мой далеко не самый музыкальный слух. Я решил, что маловато выпил, и накатил ещё одну.
Я не понял, как инструмент оказался в руках Фаддея. То ли он сам попросил, то ли, наоборот, попросили его. Он взял бережно, будто тот был сделан из тончайшего стекла. Попробовал пальцами струны, словно проверял на прочность. А потом заиграл и запел удивительно чистым, проникновенным голосом. Песня была о доме, окне, распахнутом в сад, цветах, золотых, как солнце и девушке в белом платье… Я закрыл глаза.
– Что с тобой? – неожиданно тронула меня за плечо Магдалин. – Ты плачешь?
Прикусив губу, я покачал головой, вымучил улыбку.
– Тоскуешь по дому?
– Того дома давно уже нет. И не будет уже никогда…
Сам не знаю, как вырвались эти слова. В жизни никому не жаловался, особенно красивым женщинам. Даже Магде.
– Не надо… – шепнула она, касаясь моего запястья.
Её рука оказалась меж моих ладоней, дрогнула и замерла, как пойманный зверёк, готовый в любой момент вырваться и ускользнуть. И я замер, боясь спугнуть мелодию случайного прикосновения. Мне отчаянно захотелось приложиться к её трепетной ручке губами, но я не осмелился. Сидел и тихо млел как глупый подросток на первом свидании.
Песня закончилась, музыка смолкла. Инструмент, как сытый свернувшийся калачиком кот, покоился на коленях Фаддея. Комната взорвалась аплодисментами и восторженными возгласами. Но Фаддей решительно их пресёк, отдал инструмент и насупился над своим бокалом.
– Эх, Иуда, – сказал чей-то громкий бас, – тебя не хватает. Никто из нынешней молодёжи с тобой не сравнится. Изображают что-то, выламываются, а настоящей музыки нет. Души нет.
Иуда. Меня вдруг словно стукнули по голове. Причём во второй раз, как обычно в кино: долбанут первый раз – у героя амнезия, а чтобы обратно вспомнить всё, требуется второй удар. И тотчас – щёлк! И становится светло настолько, что самому страшно: то ли это озарение, то ли очередной глюк.
Не может быть! – к рикнула одна половинка моего мозга.
Может! – возразила другая.
Я дёрнулся и опрокинул бокал с вином на стол. Оно растекалось отвратительной красной кляксой.
Метнул в Равви пронзительный взгляд, но он не смотрел в мою сторону.
– И музыка, и душа остались. – говорил Фаддей. – Они вечны. Были, есть, и будут, с Иудой, или без. А деньги, слава, успех – всего лишь химеры. Мне это уже ни к чему…
– Что случилось? – встревоженно спросила Магдалин.
– Что?!
– На тебе лица нет. Тебе плохо?
– Почему его называют Иудой?
Она посмотрела удивлённо, помешкав, ответила:
– Прежде его так звали. С крещением он принял имя Фаддей.
– Зачем?
– Равви дал. Как символ начала новой жизни.
– Послушай, а имя Иуда у вас редкое?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу