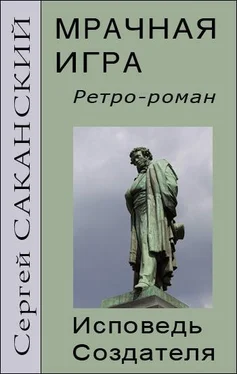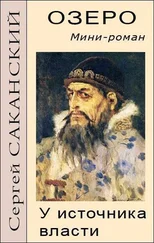– Не может быть: православная негритянка!
– Скорее всего: аскалка. Я сам за ней давно наблюдаю…
Видимая в профиль, она беззвучно шептала слова молитвы, свеча в ее пальцах трепетала от ее дыхания, белоснежный русский платочек темнил ее, впрочем-то, довольно светлую для аскалки кожу, и многие присутствующие в храме искоса поглядывали на нее.
Она почувствовала взгляды, обернулась и нежданно, в этой слезами блестящей вариантности, встретилась с Ганышевым на несколько мгновений, и луч ее заставил его содрогнуться. Увы – нельзя было не любить это лицо.
Долгие годы невыносимой тоски и одиночества моя душа все дальше и дальше отходила от тела, и жизнь, которую я живу, пока нет тебя, все более кажется мне нереальной, призрачной, а настоящая моя жизнь там, где ты, да, пусть я была гадкой строптивой девчонкой, может быть, я и осталась ею, но та, которая все эти годы ждет тебя, и есть девушка, ушедшая в монастырь, как и было обещано, девушка-доппельгангер, даже помыслом не изменившая тебе. Это выглядит так: будто из меня нынешней вышла другая, разорвав в кровь мою оболочку, и эта другая – белая, светлая – приняла душ, смыв остатки чужой крови, гнилых вен, одела чистое белое платье…
От пустоты времени и по многим другим понятным причинам я заучил наизусть и эти слова, и все остальные ее письма… Почему-то у меня больше не получались стихи.
– Может, подождем ее на паперти, интересно… – предложил Хомяк.
– Зачем это? – возразил Ганышев, но, спустя час, когда они, следуя карикатурной беспечности тех лет, бросавшей каждого из нас в непостижимые крайности, штурмовали вместе со всеми винный магазин, у Ганышева засосало под ложечкой от этой невстречи, этого неизлома реальности, и еще через час, откупорив и выпив, Ганышев совсем сник от этой несостоявшейся любви.
Облик дачи, которую он не видел с весны, не обрадовал его, к тому же, родители Хомяка, прожив здесь сезон, сделали перестановки, к которым еще надо было привыкнуть. У антикварного рояля, царившего посередине гостиной, почему-то исчезла крышка с клавиатуры, и инструмент приобрел откровенную белозубую улыбку. На многих дверях – совсем уж непонятно, для чего – появились новые, блестящие хромом щеколды, будто члены семьи внезапно возненавидели друг друга…
Целомудренное утро, осененное церковной чистотой, перешло в глухой дачный вечер, когда с чуждой немецкой пунктуальностью действительно повалил снег, и друзья, затопив камин, продолжали жрать портвейн, говорили о политике, о науках и искусствах, о женщинах.
– Эти аскалки очень хороши в постели (немного икая). Никогда себе этого не прощу, где ее теперь искать?
– Нет ничего проще (все просто, когда есть портвейн). Она была в этой церкви сегодня, почему бы ей не пойти в следующее воскресенье?
– Точно, прямо на паперти. Она роняет платок, нагибается, и молодой человек, с массой тончайших, остроумнейших комплиментов…
Всю эту хмельную ночь, холодея под ватным одеялом, Ганышев занимался фантазиями – и простыми эротическими, и глубокими духовными, как всегда в подобных случаях, если какая-нибудь девушка бросала на него взгляд, он программировал собственный вариант реальности, и упущенный случай вырастал в быстро проговариваемую повесть – с нежнейшим диалогом, с живыми призраками улыбок, с неминуемым катарсисом – липким, горячим, постыдным…
Вся следующая неделя прошла в этом счастливом тумане: он вглядывался в лица прохожих женщин, пытаясь занять на время ее черты, мысль, иногда свободная от навязчивой идеи, вновь цеплялась за промельк церковных луковок в окне троллейбуса, Хомяк, пять лет университета прососедствовавший с ним за одним столом и теперь соседствующий этажом выше, повесил в своем углу красочный плакат, смазливую негритянку с бананом, как бы издеваясь, хотя это было случайным совпадением: их организация в те дни получила новые игривые календари, как бы прикручивая свои дурно коптящие светильники, но именно эта случайность больше всего поразила Ганышева, представляясь в виде какого-то знака судьбы.
Ничего не сказав другу, в воскресное утро (был следующий по церковному календарю праздник) он отправился на улицу Неждановой и сразу, едва перекрестившись у портала, увидел ее через открытую дверь.
Народу собралось много, к тому же, часть помещения была отгорожена для ремонта, и в этой толчее Ганышев начал свое продвижение к намеченному объекту, терзаясь и мысленно матерясь. Он терся и сопел вокруг нее, тщательно подобранные, такие ладные слова улетели прочь, и она заметила его лишь тогда, когда, закончив свою молитву и повернувшись к выходу, наступила Ганышеву на ногу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу