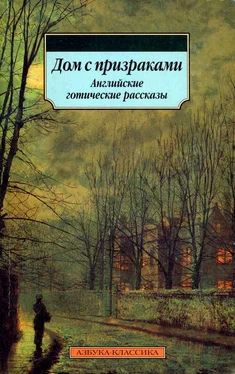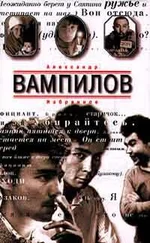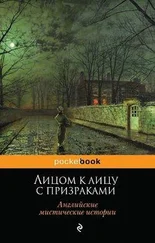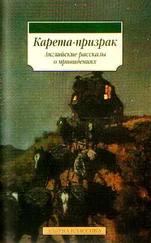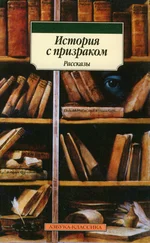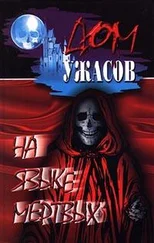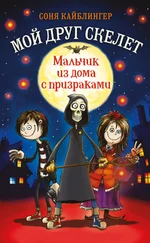Не следует, разумеется, видеть в герое Эдвардс рупор ее собственных убеждений. Пространный монолог, вложенный в уста второстепенного персонажа, служит прежде всего инструментом, помогающим автору настроить читателя на нужный лад, подготовить его к дальнейшему развитию сюжета. Рассказ Эдвардс выстроен столь искусно, что допускает двойную мотивировку описанных в нем событий и может быть при желании прочитан и как не выходящий за рамки посюстороннего, эмпирического опыта.
Еще более изощренный образец использования двойной мотивировки, «неявной фантастики» находим в новеллистике признанного мастера «черного» жанра Джозефа Шеридана Ле Фаню. В совершенстве владея техникой поддержания напряженного читательского интереса (получившей в современной теории искусства наименование «саспенс»), Ле Фаню умел придать изображаемому зловещий колорит, создать атмосферу тревожного ожидания, но при этом избегал однозначной трактовки описываемых мистических явлений. Он удивительно современен в разработке тем вины и воздаяния, в исследовании темных закоулков человеческой души, ее болезненных состояний. Новеллы «Зеленый чай» и «Давний знакомый», взятые из последнего прижизненного сборника писателя «В тусклом стекле» (1872), представляют собой, по сути дела, истории прогрессирующих душевных заболеваний и построены по принципу «текста в тексте». Так, в «Зеленом чае» рассказ преподобного мистера Дженнингса о преследующем его, как рок, видении — призраке вульгарной и агрессивной маленькой обезьяны — включен в рукопись доктора Хесселиуса, первого в истории литературы героя-психиатра, наблюдающего за течением болезни, а эта рукопись, в свою очередь, предварена комментариями бывшего секретаря Хесселиуса, унаследовавшего после смерти доктора его богатые архивы. Сходная композиционная схема лежит в основе новеллы «Давний знакомый», только здесь история главного героя — бывшего морского офицера, доведенного до гибели преследованиями таинственного коротышки, — изложена не от его собственного имени, а от имени стороннего наблюдателя — некоего ирландского священника. В обеих новеллах «сверхъестественное явление» представлено не как аутентичное свидетельство автора, а как восприятие и переживание центрального персонажа, открывающее перед читателем перспективу самостоятельных толкований и разночтений. Сфера фантастического максимально сближается со сферой реальности, создавая тем самым возможность параллелизма версий — как фантастической, так и вполне реальной, даже естественно-научной.
Особое место в сборнике занимают две новеллы, принадлежащие перу известного ученого-филолога, медиевиста и редкого знатока древности Монтегю Родса Джеймса, — «Мистер Хамфриз и его наследство» (1911) и «Дом при Уитминстерской церкви» (1919). В первой из них речь идет о череде загадочных роковых событий, с которыми сталкивается герой, пытаясь постичь тайну паркового лабиринта, доставшегося ему в наследство от покойного дяди, во второй — о трагической гибели двух подростков, затеявших опасную игру с инфернальными силами. Ни та, ни другая новелла, строго говоря, не укладываются в жанровые каноны ghost story уже потому, что в одной из них привидений просто нет, в другой же («Дом при Уитминстерской церкви») призрак хотя и упоминается («Прижмется к окну… рот то раскроет, то захлопнет. Простоит так с минуту и уйдет обратно в темень, на кладбище»), не играет сколько-нибудь существенной роли в сюжете. Рамки «рассказа с привидением», мастером которого по праву считается М. Р. Джеймс, были, по всей вероятности, тесны для писателя, и он — наряду с созданием классических образцов жанра (вроде «Рассказов антиквария о привидениях», 1904) — нередко обращался к менее строгой, хотя и не менее изощренной форме «страшных историй». И в тех, и в других рассказах он оставался верен себе, своей неповторимой, легко узнаваемой «джеймсианской» манере письма. Виртуозно владея всеми регистрами «макабрического» жанра, автор с помощью красноречивых намеков, софистических недомолвок, зловещего подтекста погружает читателя в почти осязаемую атмосферу страха и тайны. При этом он широко использует литературные аллюзии и реминисценции, материал средневековых и библейских легенд (вроде легенды о Сауле в новелле «Дом при Уитминетерской церкви») и — last but not least — многочисленные образы и мотивы детской мифологии. [5] См. об этом интереснейшую статью: Краснова М. Профессор в ночной рубашке, или Откуда растут страшные руки и куда глядят страшные глаза // Новое литературное обозрение. 2002. №. 58. С. 288–301.
Такого рода мотивами и образами богаты и публикуемые в настоящем сборнике новеллы: упомянем в этой связи хотя бы образы «черной дыры» и «черной руки» («Мистер Хамфриз и его наследство») или мотив «вызывания мертвецов» с помощью «волшебного стекла» и «жертвоприношения» («Дом при Уитминстерской церкви»). По верному наблюдению М. Красновой, английская культура викторианской эпохи в значительной мере «была культурой подросткового дортуара, а деятели ее, блистательные и высокоумные, были вечными подростками, с подростковыми фантазиями, подростковыми комплексами и подростковым же отношением к миру». [6] Там же. С. 297–298.
Читать дальше