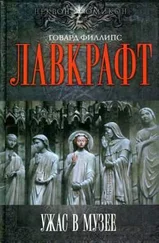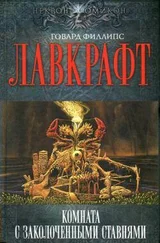Говард Филлипс Лавкрафт.
Неименуемое
Как-то осенней порою, под вечер, мы сидели на запущенной гробнице семнадцатого века посреди старого кладбища в Аркхэме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и, вообще, страшно сказать какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил, что все это сущий вздор, так как здесь уже более ста лет никого не хоронят, и, стало быть, в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, вся эта моя непрерывная болтовня о неименуемом и разном там страшно сказать каком все это пустой детский лепет, вполне гармонирующий с моими ничтожными успехами на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всяческих кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим. Всем, что мы знаем, заявил он, мы обязаны своим пяти органам чувств, а также религиозным откровениям; следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе канонических богословских доктрин в качестве последних же предпочтительны догматы конгрегационалистов [1]со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан-Дойлем [2].
С Джоэлом Мэнтоном (так звали моего приятеля) мы частенько вели долгие и видные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителя Новой Англии самодовольство, которое отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он придерживался мнения, что если что-нибудь аиимеет реальную эстетическую ценность, так это наш обычный, повседневный опыт, и что, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе размеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом; ибо, несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он терпеть не мог, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практичному и трезвому уму никак было не постичь, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, как правило, подгоняемыми нашими ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, основания и следствия; и хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь негеометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя арбитром, полномочным проводить условную черту и удалять из зала суда все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. Наконец он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настощему неименуемого . Само слово это ни о чем ему не говорило.
Пытаясь переубедить этого самодовольно коптящего небо ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, но было в обстановке нашего послеобеденного диспута нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычной дискуссии. Полуразрушенные плиты патриархальные деревья, остроконечные крыши старинного городка прибежища ведьм и колдунов, обступившие кладбище со всех сторон все это вкупе подвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон весьма чувствителен ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые не принял бы в наши дни всерьез ни один мало-мальски образованный человек. Я говорю о таких поверьях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них всю жизнь.
Читать дальше