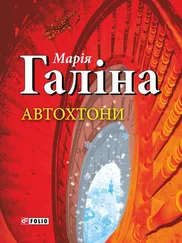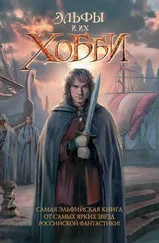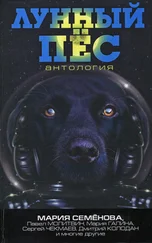«Любезный мой друг, — писал он по-французски, — разумный и органический прогресс безусловно есть всеобщее благо. Он, по крайней мере, лучше того духа отрицания и критики, что царит в последнее время на поприще общественного развития в Европе».
Помахал перед лицом ладонью.
Померещилось, ничего нет за портьерой.
И что за лицемерие, зачем пишу?
Приподнялся осторожно, газовый рожок прикрутил, на цыпочках прошел к окну, отдернул портьеру. Ткань пахла мокрой овчиной.
Тяжелый, гнилостный запах.
Водоросли, облепившие разбухшее лицо утопленника.
Выдумки твой прогресс, друг любезный, сплошное холодное умствование. Думаешь, все, что обитает на земле и под землей, можно постичь человеческим разумом. А они ползают там, в темных глубинах…
С миниатюры на столе молнией сверкнуло нежное наклоненное лицо с черешневыми навыкате глазами и ярким, свежим ртом.
Mamane звала ее цыганкой. Цыганка сверкнет глазом, запрокинет голову, блеснет зубами, и идешь, идешь за ней, не помня себя…
За бесстыдно отдернутой портьерой во все края простиралось одинаковое полупрозрачное небо, капли, светясь, висли на черных ветках, на желтых листьях с завернувшимися краями.
А там скользит туман меж еловых стволов, холодный туман, а небо над ним теплое-теплое, синее, розовое небо, а в нем, в этом блистающем небе привиденьицем тоненький ноготь молодого месяца, вальдшнепы кричат на тяге, бекасы блеют барашками, ружье в руках нагревается, в сильных, молодых руках, английское ружье Мортимера, заряжающееся a la Robert, по последнему слову ружейного искусства…
Да, но без Нее, без счастья служить Ей, видеть Её каждодневно, без этого экстаза самоотречения, разве испытал бы он ту остроту жизни, в которой даже страданье расцвечено чудными павлиньими пятнами, наподобие тех, что плавают под сомкнутыми веками?
Это странное, звенящее чувство пустоты и легкости, словно облако несется над землею, одушевленное, счастливое облако, свободное от бренной оболочки, словно…
… выпотрошенная рыба, подгнивающая на грязном кухонном столе.
Как она забеспокоилась, бедняжка, когда он первый раз шепотом спросил ее: «Кто это там? В углу?». Как стала уверять, что всего лишь тень от буфета, лунный отблеск от зеркала, мутный плавающий свет.
Он-то знает лучше.
«…Издатель ваш, друг мой, сущий кровопийца, а вы по наивности все числите его за благодетеля. Помилуйте, слыханное ли это дело — по два романа в год, на столько лет вперед, будто вы фабрика какая! Вот вы и жалуетесь, голубчик, что глаза у вас сдают совсем, пишете ощупью, чуть не по линейке. А что до переезда вашего из Парижа, так, хотя в провинции жизнь, конечно, дешевле, но климат там, по-моему, еще хуже, особенно зимою…»
И как он только не боится жить так близко от тех, что в глубинах? Море ведь совсем рядом, вот оно, плещет под окнами! Недаром, говорят, он затворяется в какой-то башне, впрочем, тут еще вопрос, от кого он там прячется. И почему из всех женщин, выбираем мы тех, что мучают нас до конца жизни?
Есть ведь превосходные женщины, нежные и мужественные, интеллектуальные женщины, наконец!
Я сам про них писал.
Они готовы отдать всю себя мужчине, безрассудно, бескорыстно, жертвенно, у них прямая бесхитростная натура, прямые русые волосы, чистая серая радужка, окаймленная темным колечком, чистый глазной белок без этих красноватых прожилок… Но вот пришла эта, тряхнула черными локонами (горячие щипцы), тяжелые темные веки опустила (сурьма), алым ртом улыбнулась… спелые вишневые губы, вот это у нее настоящее, потому как…
Гнездо тут у них что ли? Чудовищный, нечеловеческий выплодок, они высасывают жизненную силу нашу, улыбаются яркими губами, говорят ласковые слова, доводят до растворения, до самоистребления!
И как знать, быть может, это и удерживает еще мое облако здесь, на этой земле, вдали от перелесков, вдали от мокрых еловых стволов? Успеть, написать правду, чтобы люди ужаснулись, и поверили, и истребили эту заразу.
И я сейчас отложу идиотское это письмо, запрусь изнутри, и напишу, наконец. Я же мужчина! Я ничего не боюсь! Сейчас вот прямо сяду и напишу! Если только… если Она позволит.
Вот, опять — тяжелые складки облепили скрытую тканью неведомую форму. И не надо ничего говорить, не надо звать прислугу, эти дуры все равно не понимают, им не дано видеть невидимое. Я-то знаю, кто там прячется.
У того, кто стоит за портьерой, кожа серая и липкая. У того, кто стоит за портьерой, есть щупальца. У того, кто стоит за портьерой, большие бледные глаза.
Читать дальше