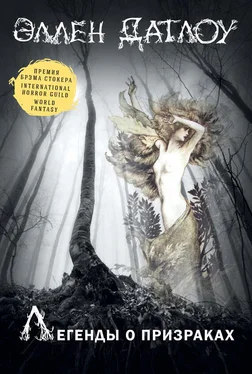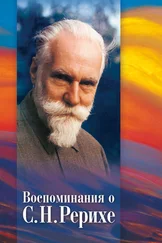Я неподвижно стоял в коридоре, пытаясь переварить только что виденное. Конечно, я знал, кто была эта девочка – не имя или что-то подобное, но то, что с ней случилось. Я глядел на запертую дверь; я знал, что за ней, на постели с балдахином, спит консул с женой. И, тем не менее, на этой же самой постели, сейчас отбивалась от невидимого насильника эта девочка, и волоски на ее тонких руках стояли дыбом от страха, а рот кривился в неслышном крике… Я был даже рад (если здесь уместно это слово), что не могу видеть его . Хотя, когда я повернулся и пошел назад по коридору, лицо в круглых очках без оправы возникло перед моими глазами, словно опущенная в проявитель фотография, и до самого восхода я не мог избавиться от ощущения, что он где-то здесь, совсем рядом со мной.
***
Скоро я пообвыкся на новой работе: всю ночь я ходил по лестницам и коридорам, изредка шарахаясь в сторону от бегущих призрачных девочек – их было так много, так много… и все не старше восемнадцати, все обнаженные и вселяющие страх своей наготой – и живых дипломатов, ночующих в посольстве, которые, спотыкаясь спросонья, появлялись из мягкого света старинных ламп и спешили к ванным комнатам. Каждое утро после смены я шел в маленькую кофейню, располагающуюся неподалеку от посольства, и заказывал себе кофе – черный, обжигающий, очень сладкий кофе с толстым слоем гущи на дне чашки. Я медленно пил его и размышлял о тяжелых дверях с железными засовами и о подвале под посольством, где слишком много маленьких клетушек и толстых цементных стен, которые никто не решается потревожить из-за страха что-нибудь обнаружить в них или под ними. А потом я спешил домой, на тот случай, если сын решит позвонить мне перед сном. У нас с ним разница во времени восемь часов.
Ты понимаешь, что стар, когда твои дети тоже уже постарели, когда их мучает больное сердце и радикулит, когда они тоже начали глохнуть и вам обоим приходится орать в телефонную трубку. Но вообще-то, звонит он не очень часто – я не обижаюсь, я бы себе тоже не стал звонить. Он меня не простил и вряд ли когда-нибудь простит, – если только на смертном одре… И мне грустно думать, что он, вполне возможно, взойдет на него раньше меня и что мои внуки не умеют читать по-русски.
Я прихожу домой и жду, когда телефон позовет меня своим тихим сентиментальным звоном. Я закрываю глаза, и немедленно перед ними встает все то, что я видел предыдущей ночью. Семь девочек, ни одна из них не старше четырнадцати, стоят на четвереньках, расставленные по кругу так, что их макушки касаются друг друга, а обнаженные ягодицы подняты вверх. Я вижу, как они содрогаются от невидимого присутствия, которое кружит и кружит вокруг них, без конца. Мне кажется, что я ощущаю дуновение воздуха, когда Берия проходит мимо меня.
Когда нога одной из девочек взлетает в воздух – я вижу вмятины на призрачной плоти и понимаю, что невидимая рука схватила ее за лодыжку, – я отворачиваюсь. Он тащит ее из круга, а она отбрыкивается второй ногой, хватается за длинный ворс ковра, а ее груди и локти оставляют на нем борозды. Ее и так уже поломанные ногти снова ломаются, и пальцы отпускают ковер. Я знаю, что произойдет дальше, и, хотя я не вижу его, я не могу на это смотреть.
Наконец наступает утро – всегда уже после того, как я теряю надежду, что солнце когда-нибудь встанет. Я даю себе клятву, что никогда сюда не вернусь. «Больше никогда», – шепчу я, это та же самая клятва, которую я повторял еще до войны, и, как и тогда, я знаю, что буду нарушать ее снова и снова, каждый вечер.
На выходе из голубого здания посольства я, бывает, сталкиваюсь с поваром-пакистанцем, который работает здесь уже несколько лет. Иногда мы останавливаемся покурить. В один из таких перекуров он рассказал мне о мешке с костями, который он какое-то время назад нашел в стене позади кухонной плиты. Он предложил мне показать это место, но я вежливо отказался – смешно, но меня по-прежнему пугает история о том, как один мужчина купил пирожок с мясом и нашел в нем палец своей жены с еще надетым на нем обручальным кольцом. Поэтому я боюсь смотреть на место, где был найден мешок с костями, несмотря на то что каждую ночь вижу призраков.
За все это время сын позвонил мне только однажды. Он долго и торопливо жаловался, не давая мне вставить хоть слово. Я молчал и слушал. Вообще-то я и не ждал, что он будет говорить о вещах, которые мы никогда не обсуждали: почему он уехал или почему он никогда не говорил своей жене, где я в свое время работал. В свою очередь, я никогда не говорил о том, как злился на него за то, что он эмигрировал в семидесятых годах. Какой в этом смысл? Поэтому я не обвинял его в смерти матери, и он не обвинял меня ни в чем. Он просто сетовал, что его внуки ни слова не понимают по-русски. А я даже не помнил, как они выглядят – ни они, ни их родители, мои внуки.
Читать дальше