– А всё почему? – сказал он сам себе вслух. – Потому что Сталина забыли! Был бы вам Сталин – летали бы сейчас, а так вот сидите и ползайте по же-дэ! Тараканы буржуазные, мешочники, мать вашу!
Вагон, впрочем, отнюдь не полз. Вихрем промчавшись по кубанской степи, он чуть качнулся на дорожном стыке и ловко встроился в длиннющую цепочку таких же здоровенных вагонов, тянувшихся гирляндой в восточном направлении. Информационное табло сообщило, что скорость поезда достигла расчётных двухсот пяти километров в час. Промелькнула внизу Волга, вырос и пропал на восточном её берегу огромный город (Сталинград, наверное, прикинул Фоминых), дальше вновь потянулись поля, похожие на шахматы. В полях работали невиданные машины. Этого всего можно было ожидать от будущего, и капитана это быстро перестало интересовать. Сейчас его всё острее глодала одна и та же мысль: какое место он сам сможет занять в этом странном будущем?
Несколько раз уже Фоминых думал о том, что его нынешняя профессия – «профессия чекиста», как он называл себя и своих коллег в общем смысле – быть может, не так уж и нужна в этом новом мире; всё прошлое сгорело, отжив свой век, и новые отношения породили новые конфликты, а также и новые способы их решения, не требующие оперативно-розыскной работы. Он думал о том, что это бы его вполне устроило: прежняя душа Фоминых – упрощенное до предела самосознание выросшего на бедной земле крестьянина – просилась вновь к крестьянскому труду. Но во времена его детства и скудной юности труд крестьянина был непочётным, неуважаемым, плодов давал мало, а требовал много; теми крохами, что вырастали, приходилось поневоле делиться , и тогда новый Фоминых, выросший, поднявшийся на коллективизации, уже один раз вырвал из себя и отбросил эту желудочную тягу к «землице-матушке» – отбросил как пережиток, чуждый классовым интересам , а также интересам личным. Новый Фоминых устроился в жизни лучше – гораздо лучше! Его сверстники, так и оставшиеся за плугом в родной сибирской провинции, либо погибли или покалечились на войне, либо вернулись к тому же, с чего и начинали – разорённым избам и тяжкому труду, часто становившемуся подневольным. Для них оставались неведомыми символами шоколад, «Абрау» и «Герцеговина», пульманы и такси; не для них играли дрожащими пальцами скрипачи и пианисты, вырванные спецмашинами из дому в три ночи; ни один из этих мужичков, жестоко поколачивавших своих простецких Дунек и Манек, даже помыслить себе не мог и десятой доли того, что Фоминых едва ли не каждую ночь проделывал со своею Ульянкой – дочерью ленинградского профессора, барышней образованной и во всех отношениях тонкой когда-то натурой. Новому Фоминых претила сама мысль вернуться в крестьянство; «мужичков» он считал низшим видом человеческого материала, годным лишь для постройки самых грубых контуров здания новой государственности. Он давно привык осознавать себя элитой , высшим элементом организации, и отказаться от этой мысли значило для него первым делом отказаться от себя самого. Себя же капитан Фоминых любил и уважал.
Оставалось только одно: найти в этом новом мире элиту, высший класс общественной структуры, и суметь доказать её лучшим представителям (здесь капитан полагался на интуитивную свою мужицкую хитрость), что он, Фоминых, всегда был и остаётся в этой элите человечком необходимым. Демьянов играл в этом плане важную роль: если удастся найти его, поговорить с ним и вывести его на чистую воду, а в этом Фоминых не сомневался, то у капитана будет право явиться пред очи местного начальства не с пустыми руками: я, мол, не просто так тут оказался, я вредителя и смутьяна поймал в вашем собственном чистеньком обществе! А всё почему? Потому что капитан МГБ Фоминых хорошо знает, на чьей стороне сила , а значит, и вся правда мировая! Впрочем, прямо о таких вещах не говорят; надо бы ввернуть, что поколение наше дралось за этот строй, за этот мир, за жратву ихнюю и вагоны разукрашенные, и если б не усилия Фоминых, который себя от Москвы добровольно отлучил и на Индигирке сгноил заживо – как знать, может, и не видать бы им всем тут победы коммунистической общности. Был бы троцкизм какой-нибудь, и всё. Или войны бы не было.
Но чем дальше Фоминых вникал в повседневную организацию жизни этого мира, тем меньше у него оставалось надежд на возвращение своего статуса. Большинство людей и так жило неплохо, а члены разнообразных Советов (власть тут была советская, но, судя по всему, какая-то бесконтрольная) особенными привилегиями, видимо, не пользовались. В принципе, это было нормально – товарищ Сталин тоже так говорил в своих программных речах, что главной задачей власти является всемерное улучшение жизни народа. Местные вожди, видимо, пошли по тому же пути, но неясно было – за счёт кого это улучшение производится; ведь если где-то чего-то прибудет, то в другом месте убудет непременно, это же диалектика, азы, в любой партшколе это сразу проходят! Опять же, что б они тут себе ни думали, но не следовало забывать и про обострение классовой борьбы в условиях приближения; чем лучше люди живут, тем лучше хотят жить отдельные люди – это тоже нерушимое правило, человек человеку не просто волк, а гад ползучий, последнее вырвет у соседа, детей его передушит, чтоб только самому повыше залезть, поближе к солнышку. Ну как, скажите на милость, они тут определяют, кому надо, а кому не след проявлять это естественнейшее человеческое чувство?!
Читать дальше


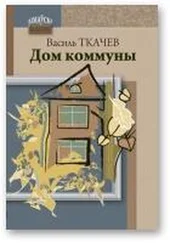


![Александр Пумпянский - Диктаторы и террористы [Хроники мирового зла] [litres]](/books/410443/aleksandr-pumpyanskij-diktatory-i-terroristy-hroni-thumb.webp)
![Альманах «Буйный бродяга» - Буйный бродяга №5.5 Хроники Мировой Коммуны [СИ]](/books/412418/almanah-bujnyj-brodyaga-bujnyj-brodyaga-5-5-hron-thumb.webp)


