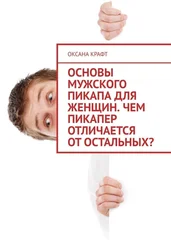Готфрид не спрашивал его ни о чём, он лишь вслед за напарником прихлёбывал горький чай и думал о том, как сейчас пойдёт на восстановительные процедуры и отправится спать. Василь начал говорить сам.
— Татьянка серьёзно увлекалась искусством танца, с малых лет, — он вольготно расположился в кресле, отчего оно долго жужжало, пытаясь подобрать оптимальный режим для столь необычной посадки, и в итоге Василь отключил авто-настройку, — когда она танцевала, я… я ходил на каждое её выступление, не пропустил ни одного концерта. Мне казалось, что это не она танцует, а нечто мифическое происходит. Похоже, сначала я всё-таки влюбился в её танец.
Готфрид застыл с чашкой у рта. Впервые Равенов делился с ним историями из глубины сердца. Это было необычно и захватывающе.
— Я помню, как мы стояли с ней на площади Генералиссимуса, вычищенной добела, сверкавшей, как белое золото, но мы не жмурились, мы смотрели на Родину-мать. Тогда я был уверен, что мы вместе поступим на экзистенциальный, полетим учиться в Рим, станем демиургами и, может быть, создадим то, что теперь создали мы с тобой, Готфрид. А потом, за год до выпуска, у неё вдруг круто поменялись интересы, и Распределитель посоветовал ей выбрать космический университет. Татьянка выбрала Москву.
Немец сложил инструменты в короб, отключил оборудование и запустил процесс отката на станке, но уходить не спешил.
— Не так уж и далеко.
— Дело не в километрах, Готфрид. Дело в… близости душ, что ли. Я могу себе позволить такое высказывание, я же демиург, — он усмехнулся, — одно время, я себя за это ненавидел, даже хотел уйти добровольцем в Международный контингент, наводить порядок в Штатах. Глядишь, схлопотал бы снаряд от фанатичного янки. В общем, с Татьянкой мы становились всё дальше и дальше, когда ещё учились на Земле. Всё-таки нельзя идти по разным дорогам рядом, нельзя. А потом мне, как гром посреди ясного неба: «Василь, я лечу на Юпитер». Вот выбрала бы Реальный университет, работала бы технологом в «Пролетарии», и сидела бы в Токио, я бы каждую неделю туда летал!
— Так вот почему ты там чуть не грохнулся в обморок, — сказал Готфрид, — теперь мне ясно. Пошли спать, Василь. Нам завтра ещё целые сутки ударно трудиться. Я понимаю, рабочий день по всему Союзу не более пяти часов в сутки, но ты ведь не против постахановничать?
— А то! — Равенов скинул задумчивую хмурость и засиял. — Мы же граждане Советского Союза — что нам, кабанам…
Утром Василь чуть было не пожалел о своём вечернем решении. Голова гудела, как допотопный поезд, которыми, насколько известно, гордилась страна его предков, пока Декретом 37-го года не ввели обязательное использование монорельсовых сверх-экспрессов. Личный контроллёр, вживлённый таблеткой в его левую ладонь, порекомендовал прохождение утренних процедур и зарядку. Василь согласился, но прежде потребовал вывести на сетчатку глаз почту и ленту событий.
— Сегодня 19-ое августа, среда. Исторический день. Ровно сто лет тому назад, группа управленцев из Коммунистической партии прото-Союза организовала ГКЧП. Согласно нынешнему историческому дискурсу, это была попытка спасения коллапсирующего первого советского государства. В ходе данной попытки, на улицы Москвы прибыли воинские формирования…
«Аа, путч! — Василь промотал текст. — Конечно знаю, все в школе учились. Просто забыл. Чем там дело-то закончилось? Не получилось. Ясно».
Василь вернулся к просмотру почты. В уголке притаилось странной формы письмецо. Когда он развернул его, странная форма оказалась человеком, впервые за последние три года написавшим ему. «Милый, прости, что улетела, не попрощавшись. Я скоро буду у тебя. Сообщу, целую». И подпись: «Татьянка».
Василь активировал начало утренних процедур. Занавесь метнулась в сторону, открыв перед демиургом Рим. Этим утром над древним городом вставало особенно красное солнце.