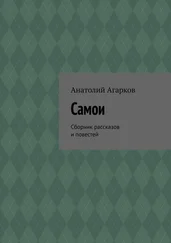Кучка селян была не в меру взволнована, это Кузьмич заметил, пройдя половину пути. Кто-то махал руками. Кузьмич разглядеть не мог, но догадывался, что это скорее всего его дружок по выпивке. Любил он горло подрать, впрочем получалось у него это не плохо. Умер в Кольке прирождённый политик, подумал Кузьмич хмыкнув, и ещё больше прищурился. Что-то было не так, как обычно.
— Может цену опустили? — спросил у самого себя Кузьмич, но тут же опроверг. — Так вроде ж обещали наоборот поднять.
Пошатываясь, Кузьмич шагал вперёд, пытливо вглядываясь в толпу. Люди вели себя не так, это он уже понимал точно, и в его голове копошились нехорошие предположения. Подойдя к ним вплотную, Кузьмич громко покашлял, но на него никто не обратил внимания. Тогда Кузьмич протиснувшись между двух полных баб живущих на Советской, потеребил за рукав своего соседа Сашку-мотыля, который завороженно глядел на «выступающего» Кольку. Выступал Колька громко, но о чём, Кузьмич понять ещё не успел, потому он нетерпеливо подёргал соседа ещё раз. Сашка повернулся и глупо посмотрел на Кузьмича.
— Шо такое? — коротко спросил Кузьмич, и тяжело сглотнул густую слюну.
— А всё, — медленно проговорил Сашка. — Кончилась лафа.
— Как кончилась? — не понял Кузьмич и рассеянно пощупал мензурку в кармане. — Я тут четыре грамма принёс, это ж на десять грамм золота. Чего эт она вдруг кончилась?
— А того, кончилась и едрить того мотыля, — буркнул Сашка и снова со вниманием уставился на «выступающего».
Уже ввечеру Кузьмич сидел во дворе Кольки, за широким, крепко сбитым столом. На розоватой, истёртой скатерти стояла литруха самогона и тарелка с солёными огурцами. Возле стола суетилась Колькина конопатая жена, подавая клубящуюся паром картошку.
— Н-да, — выдохнул Кузьмич. — Вот так взяли и улетели, ни тебе здравствуй, ни тебе до свидания. А может у них там это, — Кузьмич ткнул пальцем вверх, — Мода прошла на человеческую слезу?
Колька молчал, печально уставившись в глубь двора. Кузьмич взял бутылку и наполнил гранёные стаканы.
— Ну чё, Колюня, давай что ли пригубим-усугубим?
Колька только отмахнулся и тяжело вздохнул. Кузьмич пожал плечами и шустро опустошил стакан. Довольно выдохнув, он как и Колька уставился вглубь двора.
— А ведь ты главного не знаешь, Кузьмич, — заговорил вдруг Колька глухим голосом. — Ведь у нас с Людкой того, понимаешь, получилось. На втором месяце она уже.
Он медленно и тяжело вздохнул.
— Да ну! — вскрикнул Кузьмич. — Это ж хорошо. Поздравляю, поздравляю. За это и выпить не грех.
Он снова взял бутылку и налил себе.
— Ну чё, давай? Это ж радость такая всё-таки.
Колька повторно отмахнулся.
— Да какая тут радость, — он повернул голову и грустно уставился на Кузьмича. — Теперь зачем, а? Ты ж знаешь Кузьмич, они ж по пять грамм давали за грам детских слёз. По пять грамм. Ты понимаешь? Не как за мужские по два с половиной, а по пять, — Колька помотал головой. — А за рождение, Кузьмич ты врубись, только за рождение триста. А? А теперь что? Кузьмич, а теперь что, вот ты мне скажи.
Кузьмич пожал плечами и медленно поднялся.
— Пойду я Колюня, — тихо проговорил он. — А то штось затошнило меня от твоей самогонки.
Он развернулся и не попрощавшись зашагал к калитке. Ему и в самом деле стало вдруг тошно и вдобавок он подумал о том, как на него сегодня накинется жена, сегодня, когда уже нет возможности наживаться на его слезах.
— Да к чертям собачим этих гадов, — выйдя на улицу, стал шептать себе под нос Кузьмич. — Пусть себе летят к едрене фене. А то вишь, кидают нам свои подачки, а мы… а мы на людей-то не похожи стали. Как псы на кости, тьфу. А Колька-то, Колька, — Кузьмич недовольно помотал головой. — Всё, бог мне свидетель, не буду я больше с ним пить. Ни разу не буду, едрить твою в сосцы.
Пасмурное небо, похожее на замызганный матрас на старой, разломанной кровати в квартире запойного алкоголика, не могло пробудить ни одной светлой мысли, поэтому Сержант пил хмуро. Зима уходить не хотела, ей нравилась грязь под ногами и вверху, там, где уже давно по ночам не было видно звёзд. Она мешала землю со снегом, небо с тучами, и казалось так будет продолжаться вечно. Но как бы не было грязно под ногами, каким бы замызганным не было небо, Сержант знал, что через двести грамм ему станет веселее. Веселье это будет нездоровым, сквозь сжавшееся сердце, но о другом, о здоровом, Сержант уже давно забыл. Двадцать лет пьяной жизни утопили всё то хорошее, что, наверное, в нём когда-то было. А может и не было никогда, и всё это только пьяная блажь, которая иногда снисходит на него, как пёстрая радуга на однотонные небеса.
Читать дальше