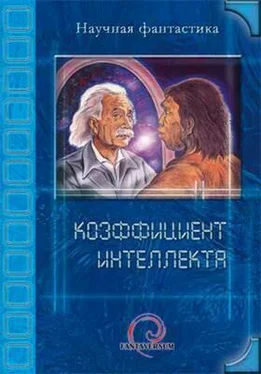Герман открывает глаза. Мир вокруг — монохромный и плоский. Где-то вдалеке серое небо сливается с серой землей, и линия горизонта теряется в туманной дымке. Пространство вокруг и сам Герман — как персонажи немого черно-белого кинофильма. Ни звука, ни движения. Пустота.
Путаная мысль — неужели я такой и есть? Пустой, мертвый? Не может быть.
— Не может быть, — произносит Герман вслух. Губы привычно шевелятся, и в мире появляется звук. Знакомый, успокаивающий звук собственного голоса. Первое замешательство проходит. Губы расползаются в улыбке.
— Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, — цитирует он по памяти.
Сейчас и здесь Бог — это Герман. Он один в этой пустоте, и пока что это место кажется безжизненным. Значит, надо заполнить пустоту звуками, цветом, движением. Но Герман не знает как. Не знает, с чего начать. Он делает шаг (в каком направлении? — здесь нет направления; пока еще нет), другой. Звук, движение. Нужен цвет.
Герман пристально смотрит на свою руку, на кончик указательного пальца. Наверное, должно быть так — на кончике пальца появляется пятно того безымянного цвета, который обычно имеет кожа белого человека. Потом пятно растет, распространяется по всему пальцу, по всей руке.
Он произносит это вслух. И пятно действительно появляется. Растет. Цвет охватывает все тело, делая его знакомым и привычным, родным: живым. Из солнечного сплетения поднимается физически ощутимая волна восторга: я могу. Раз могу это — значит, могу все.
— Надо сделать камень, — говорит Герман. — Пусть будет камень.
Он представляет себе большой камень неправильной формы. Он хочет разместить его перед собой. Сосредотачивается на этой мысли, создавая, приказывая возникнуть. И камень возникает — огромный, тяжелый, вещественный. Герман прикасается к нему ладонью, осязая правильную шероховатость. Кажется, он начинает понимать.
Нужно сделать еще что-нибудь. Нужно сделать… дерево. Да, пусть будет дерево. Герман концентрирует внимание на месте возле камня, тянется туда мыслью — это дается тяжелее, чем камень, — и из-под земли появляется росточек.
— Пусть дерево растет, — говорит Герман.
Росток на глазах становится выше, распрямляется, из ствола выступают ветки, из веток — хвоинки (это выглядит как компьютерная графика нового образца), и через пару временных отрезков Герман создает кедр в три человеческих роста высотой. Он старается вытянуть его выше и толще, сделать подобным калифорнийскому Гипериону, но не может. Его дерево не хочет становиться выше, и Герман оставляет попытки.
Он присматривается к Первому Дереву внимательнее. Он определенно видел такое же раньше, в детстве, за оградой родительского загородного дома. Тот кедр ничем не отличался от тысяч таких же и при этом для Германа был особенным — старым другом, с которым семилетний мальчик мог поделиться радостями и огорчениями, на ветках которого мог построить шалаш и прятаться там от взглядов посторонних, воображая себя отважным индейцем или капитаном Немо в рубке «Наутилуса». Тот кедр был невысоким — как раз примерно три человеческих роста. Помнится, в лесу рядом с домом жила белка: почти ручная, она брала орехи из рук маленького Германа и иногда позволяла себя гладить.
— Белка, — говорит Герман. Улыбается широко, радостно, настояще.
— Герман, — говорит белка и улыбается еще шире.
— Чего? — говорит Герман.
Белка ничего не отвечает. Она застывает на ветке рыже-коричневым изваянием, и только легкий ветерок шевелит шерстку.
Ветер?
В ноздри проникает запах: знакомый, легкий, едва уловимый. Так пах дед, провозившись весь день в гараже.
Герман пристально смотрит на белку. Выдыхает:
— Показалось.
Всматривается в глаза зверька — нет, у деда был другой взгляд.
Он позволяет себе перевести дух. Белка по-прежнему не шевелится. Она не живая: чучело. Стиснув зубы, Герман представляет, как белка бежит по ветке, скачет по стволу вверх, теряясь в кроне кедра.
— Беги, — говорит он.
И белка начинает двигаться. Белка делает все, что Герман хочет. Белка прыгает. Белка рыжей стрелой взлетает на верхушку дерева и теряется среди веток. Герман высматривает шишки. Белка голодна. Герман замечает одну-единственную шишку на самом кончике кедровой лапы. Но его чутье, чутье белки, говорит, что еды в ней нет.
Белка — Герман? — спускается по стволу, садится на земле на задние лапки, оглядывается. Белка — Герман? — разочарована. Она недовольно дергает носом.
Читать дальше