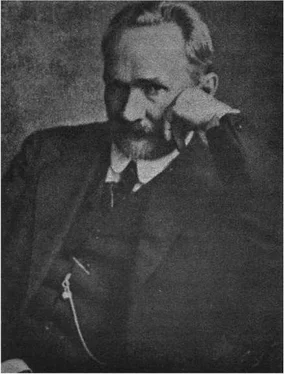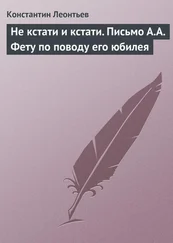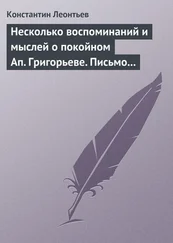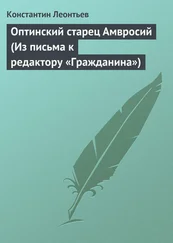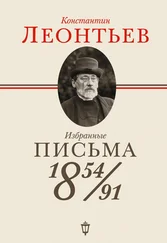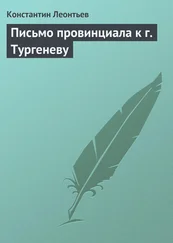КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ. ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ РОЗАНОВУ (Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова. Вступительная статья Б. А. Филиппова)
Б. А. Филиппов. НЕПОНЯТЫЙ
К 150-летию со дня рождения Константина Леонтьева (13/25 января 1831)
Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом.
Вас. Розанов
Его цитируют иной раз монархисты, почти всегда из вторых рук, тенденциозно вытаскивая нужные цитаты. Нет-нет, цитату из него встретишь даже у какого-нибудь Чалмаева из Молодой Гвардии, когда тому захочется поговорить о самобытности русского национального характера. Но народ, нация, «племя» — для Леонтьева не слишком-то явление значительное. «Племя, разумеется, — явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови… Любить племя за племя — натяжка и ложь…» («Византизм и славянство»).
Кто же Леонтьев (1831–1891)? Консерватор, реакционер? Но, кажется, нет русского мыслителя и писателя более свободного, независимого во взглядах, чем он. Так его понимает и далеко не «реакционер» — Бердяев. Ницшеанец до Ницше? Но ведь он был не только христианином, но и закончил дни свои в монастыре. Христианин? — Но в письме к В. В. Розанову, уже из монастыря, в последний год своей жизни, он писал, что «и христианская проповедь, и прогресс европейский (который К. Н. Леонтьев люто ненавидел и презирал, Б.Ф.) совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь. И Церковь говорит: «конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде». Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетике, из трансцендентального эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, мы можем противиться, ибо он одинакого вредит и христианству, и эстетике»… И, умирая монахом, на смертном одре, он бешено бушевал, кричал, что умирать не хочет — и не согласен…
Славянофил? Но Леонтьев не любил славян, не любил даже русского православия, предпочитал ему строгую красоту и красивую строгость православия греческого. Не Зосима Достоевского, а суровый аскетизм греческой Афонской горы. Христианство Толстого и Достоевского для Леонтьева — «розовое». Для него — страх Божий — начало премудрости, а не «Бог есть любовь»: «трансцендентальный эгоизм» — жажда личного спасения. Из славян, пожалуй, он уважал по-настоящему лишь поляков — за превосходную, изящную и хорошо откристаллизовавшуюся иерархически устойчивую форму их национального бытия. Русские? Русских он — уже по происхождению своему — любил. Но для него исконная русская культура — дичок славянский, аморфный, стихийный, оформившийся в мировую культуру лишь после прививки византинизма…
Пожалуй, по душе ближе были ему турки. Леонтьев — европеец-романтик — бежит из Европы обезличенных, нивеллированных «средних европейцев», из Европы «мещански-либеральной» на Восток. Ему по душе там все: пестрота жизни и нравов, красочность костюмов, даже свирепость, но своеобразное крепкодушие и отвага. Дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть» («Египетский голубь»). Не нравится ему на Востоке (в Греции, скажем) только семья прозаической прочностью и незыблемостью основ, первобытной простотой своей. Ни семейную этику, ни мораль вообще Леонтьев не слишком-то жалует. Уже монахом он противопоставляет чисто церковной, религиозной оценке, чистую этику (которую я и теперь, при всей искренности моей веры, мало уважаю)»…
Чистый эстет? Некое подобие французским и русским символистам, проповедникам, имманентности» и самоценности искусства? О, нет! Он в том же 1891 году пишет Розанову, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства… никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее (сравнительно, конечно, с прежним) слабонервное, мало верующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — "избави Боже!"»
Читать дальше