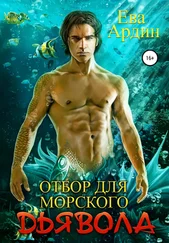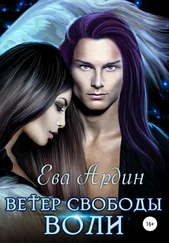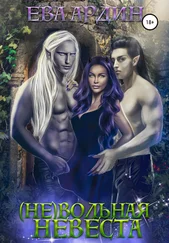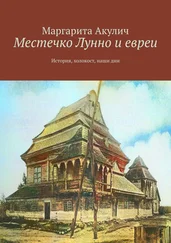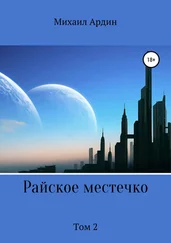Тогда Мелисса и предложила принципиально новую систему защиты общества от преступников: человека судило не общество, он судил себя сам.
Методически новая система основывалась на том, что личность любого человека есть информационная модель, созданная его мозгом, которая содержит в себе, кроме массы прочих вещей, всю информацию о намерениях и поступках субъекта, а также систему оценок этих намерений и поступков с точки зрения как самого этого субъекта, так и с точки зрения других членов общества. И эта информация гораздо объемнее и полнее, чем человек отдает себе в этом отчет или желает считать. Грубо говоря, что бы человек ни говорил, что бы он совершенно искренне, как ему казалось, ни считал, он все равно прекрасно знал, «что такое хорошо и что такое плохо», что с людьми делать можно, а чего делать нельзя ни в каком случае. Система внутривидовых отношений складывалась в течение сотен миллионов лет, правила поведения человека с себе подобными закреплены генетически и внедрены в самые глубокие уровни подсознания. Полностью искоренить, извратить их не могут ни воспитание, ни защитные механизмы психики людей, которые на сознательном уровне стараются представить самые чудовищные деяния как необходимые иди даже героические действия. То есть «в глубине души» каждый знает, что творит.
Техническая реализация метода системы «Высший Суд» заключалась в том, что в мозг подозреваемого вводился активный микрочип, связанный с центральным процессором системы. Система с помощью внедренного в мозг чипа использовала для инициирования памяти субъекта глубинные процессы мышления, не контролируемые его сознанием. Информация, содержащаяся в памяти подозреваемого, поступала в блоки памяти системы. Одновременно система, используя все тот же чип, стимулировала воображение и механизмы управления физиологическими процессами человека, заставляя его переживать и испытывать то, что испытали его жертвы… Даже одно умышленное убийство приводило к неминуемой смерти убийцы. Человек сам вершил свою казнь.
Это был в некотором смысле возврат к древнему принципу «око за око, зуб за зуб». Кое-кто говорил, что это жестоко, чаще всего те, кому повезло не стать жертвой, не потерять в результате преступления родных и близких. Подавляющая же часть человечества сочла, что применение «Высшего Суда» не только справедливо, но и весьма гуманно, поскольку преступники не успевали, как правило, пережить всех страданий, причиненных своим жертвам.
А по сути применение «Высшего Суда» не противоречило известному нравственному принципу: «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы отнеслись к тебе», частично осуществляя его антитезу: «получи то, что ты дал другим».
В народе «Высший Суд» называли «электронным бумерангом» или «машиной возмездия», а чаще всего – «приветом с того света».
Ну а если же человек случайно, совершенно не желая того, наносил другому вред или даже убивал его, «Высший Суд», не обнаруживая злого умысла, не мог инициировать процесс возмездия, и меру ответственности этого человека устанавливал обычный гражданский суд. Часто в таких случаях человек, прекрасно понимая, что он фактически не виноват, переживал и винил себя больше, чем любой другой суд.
Очень скоро общество почувствовало эффективность применения новой системы. Поскольку все доказательства виновности находились в памяти преступника, не нужен стал исчерпывающий набор фактических «железных» доказательств, который для суда так часто не могло добыть обычное следствие. В то же время невиновные не могли оговорить себя, потому что человек на подсознательном уровне прекрасно знал, что он делал, а чего он не совершал.
Конечно, первые модели «Высшего Суда» были грубоваты, и их использование представляло собой довольно неприятную процедуру для подозреваемого. Но каждый оправданный невиновный был готов перенести и не такие неудобства… Ну а для преступников эта процедура была всего лишь началом заслуженных мучений.
Самыми сложными для судебной системы всегда были случаи недееспособности субъекта, обусловленной патологическими нарушениями работы мозга. Для подобных случаев, «Высший Суд» оказался также незаменим, поскольку чип передавал объективные данные о нарушениях в механизмах обработки информации или о дефектах структуры мозга, после чего система останавливала свою работу. Полученная информация позволяла врачам поставить точный диагноз, в соответствии с которым суд направлял человека на лечение или в пожизненную изоляцию. То есть «Высший Суд» оказался и по сей день остается исключительно ценным диагностическим прибором в психиатрии и нейромедицине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
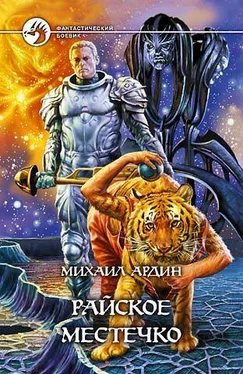

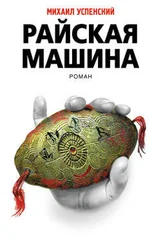
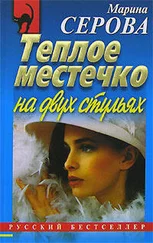
![Ева Ардин - Жена повелителя эльфов [СИ]](/books/433159/eva-ardin-zhena-povelitelya-elfov-si-thumb.webp)