И все же я упорствовал; и он направил свои стопы ко мне по каменным плитам, и сказал мне в лицо, так что я ощущал его слюну на щеках моих, что дети будут умертвлены и что он намерен свершить казнь своею собственной рукой.
При этом я содрогнулся, ибо знал, что он превратил убийство в развлечение для собственного удовольствия и что дети умрут самым омерзительным образом.
И да простит меня Бог, но я дал ему понять, что немедленно пойду к детям и отравлю их, ибо он не знал, что они не едят, от каковых слов мой Император рассмеялся с радостью при мысли, что я погублю мою душу подобным деянием; и вот он приказал мне сотворить дело сие; и я поспешил в дом, где благословил мамок и нянек, простых и достойных женщин; и дал я им некоторое количество золота, и, рыдая, удалились они, взяв с собою оставшихся двоих немых детей. А я отправился к троим говорящим детям, моим детям, намереваясь открыть двери, чтобы они могли бежать и укрыться в миру.
Я приблизился к ширме; но ширмы на месте не было; дети стояли на том месте, где прежде стояла она, и смотрели на меня искренне; и старшая девочка наградила меня улыбкой, и по улыбке этой я понял, что она знает, какую судьбу уготовал им Фридерик, и не печалится ею.
И затем она отвернулась, и все трое встали лицом друг к другу, образуя треугольник, и запели они число; и было оно подобно светильнику, испускающему свет несветимый, или подобно трубе, издающей зов беззвучный; и подобно озарению после жизни, проведенной в безумии, открылась впереди тропа, прежде невидимая глазу. Дети помахали мне в знак прощания, и повернулись, и вприпрыжку побежали в направлении, которому нет имени; все вдаль и вдаль и прочь с глаз; а улыбки их остались со мной даже после того, как дети пропали из виду.
И вот, я сижу один в доме, с листом пергамента и пером, и повесть эта — но чу! — слышу я, как колотят в забранные засовами двери, и сквернословят, и знаю я, что Император здесь, и люди его с ним; и я знаю, что остались у меня считанные мгновения до того, как они войдут и предадут меня смерти. Увы! все, что я оставляю им на гибель и раздрание — это повесть сию, которую я, недостойный прислужник, со всем смирением и почтением оставляю для усладительного чтения своего Императора. А засим, пока разбивают двери, и облегчив душу повестью моей, лишь одно остается мне, а именно: произнести Священное число, переданное моей дочерью в сердце мое, и заново откроется путь, чтобы я поднялся и пошел странствовать в те края, куда уже устремились брат с сестрой ее, странствовать присно и во веки веков.
Тем кончаю я свидетельствование мое пред Богом, число Коего есть Один.
На дворе десятый день месяца марта года 1453, и Кардинал Бессарион подобен полубогу в своем моллюсочном ракушколете романского стиля, влекомом роторами из золота и серебряной филиграни. Вот он блистает над Альпами, прежде чем спуститься на землю в Вене, где ему назначена аудиенция с Фридрихом III, Императором Священной Римской Империи, правителем Германии, Пруссии и Австрии.
Фридрих рад видеть Кардинала и принимает его с должным великолепием, окружая диковинками и плодами с хитрым механизмом, наученными испускать дымку милостивого благоволения; но Кардинал (и в лучшие-то времена невеликий весельчак) не склонен отвлекаться на пустое. Он прибыл по делу: просить у немцев военной поддержки против турок, занявших Константинополь месяцем ранее (неверный город, константа непостоянности, вечно переметывается то к вашим, то к нашим — так что, пожалуй, давно нуждается в перемене имени).
При таком повороте беседы Император снижает настрой своей гостеприимности на полтона, потому что относится к туркам с большим (скажем так) почтением . Вызвано оно преимущественно талантом турецкой стороны создавать вооружения biologische — вроде тех, о каких Фридрих наслышан от греков: воздушно-капельные злодеяния, парящие над Эгейским морем. Чума и злосчастье из турецкой пасти. Флегматичные болезненности; стул, зловонием и консистенцией подобный разложившейся падали; язвы, наделенные языками, чтобы шепотом вплетать святотатства в кисею человеческих снов.
Короче говоря, Турция — враг странный и жестокий, против которого, считает Император, не след связывать себя военными обязательствами. Но точно также не желает он заслужить нерасположение Кардинала и самого Рима, источника императорской власти.
Himmel! издает Император вздох из своей груди.
Читать дальше
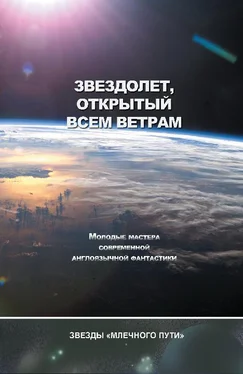







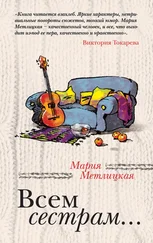

![Дэвид Бишоф - Чужие - Геноцид. Чужая жатва [сборник, litres]](/books/421774/devid-bishof-chuzhie-genocid-chuzhaya-zhatva-sbornik-thumb.webp)

