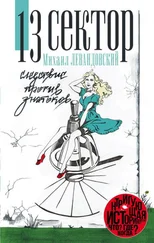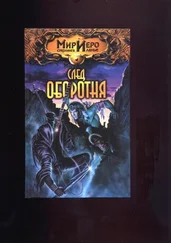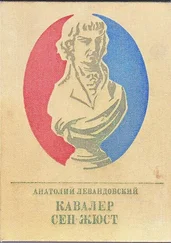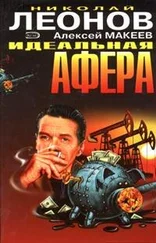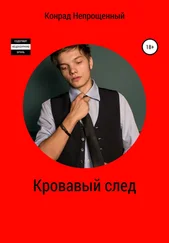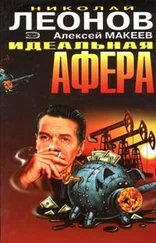Наклонившись, он начал лизать ее стынущую руку. Добрую руку, которая, хотя и никогда не причиняла ему боли, покрыта была сетью глубоких шрамов – старых следов его клыков и когтей.
Он сидел, словно одеревенев от горя, и даже не заметил прошедших часов. Лишь легкая дрожь, сотрясшая все его тело, напомнила ему о том, что должно было произойти через несколько мгновений…
Где-то в глубине мозга возникла тупая боль и начала расти, пульсируя алым пламенем. Она росла, вздымалась, распирая череп, и внезапно, словно ледяная молния, выстрелила вдоль позвоночника. Ксин издал сдавленный стон и упал, конвульсивно дергаясь. Морду и лапы охватил живой огонь. Кости изгибались, словно ветки, а мышцы попеременно то распухали, то затвердевали. Зубы отступали в глубь челюстей, длина которых сокращалась судорожными рывками. Ему казалось, будто ему выдирают глаза, перемалывают пальцы и ноги. Шерсть по мере Превращения скрывалась под опухшей кожей.
Наконец наступил перелом – страдания быстро начали ослабевать. Вскоре осталось лишь легкое онемение, которое вскоре тоже прошло. Ксин поднялся с пола и сел, теперь он уже мог плакать…
Он закрыл глаза руками, и плечи его сотряслись от беззвучных рыданий. Так продолжалось некоторое время. Пронзительный холод раннего утра заставил его наконец подумать и о себе – ведь он был совершенно голый. Он встал и, взяв одежду, которую снял перед самым полнолунием, начал поспешно одеваться. Закончив, он снова посмотрел на тело Старой Женщины. Только теперь он понял, насколько он одинок.
– Ее нет, больше нет… – Его охватила новая волна безутешного горя. Кое-как собравшись с духом, он в последний раз посмотрел на ее доброе лицо, поцеловал ледяные щеки и накрыл тело простыней.
Оглядевшись по сторонам, он нашел веревку и кусок ткани и принялся за работу. Вскоре перед ним лежал длинный бесформенный сверток.
Ксин стоял выпрямившись, светловолосый, а его зеленые глаза смотрели куда-то вдаль…
– Она так долго была здесь, рядом со мной… была всегда… – тихо проговорил он.
Она нашла его давным-давно, двухмесячным младенцем. Он лежал брошенный на каком-то пустыре, пригвожденный к земле тремя осиновыми колышками. Палачи перестарались – и потому он выжил. Вполне хватило бы и одного, но в сердце. Те же три как раз прошли мимо – сердце оказалось между ними, – и его кошачья живучесть использовала свой шанс.
Женщина освободила его, обработала раны, от которых не осталось даже следа, и накормила. Он быстро выздоровел.
Она наверняка догадывалась, кто он такой на самом деле, и все же однажды ночью, когда весело агукающий в своей кроватке карапуз превратился в маленькое обезумевшее чудовище, это застало ее врасплох. Она даже не отнеслась к этому всерьез, не подозревая, сколь могучая сила и ненависть завладели его маленьким телом. Он набросился на нее, охваченный звериной яростью. Они долго боролись. Она делала все, чтобы не причинить ему вреда, он же хотел лишь убивать. Он очень сильно ее тогда поранил, особенно руки.
На другой день, когда она плакала от боли, он, как обычно, криком требовал своего молока.
Она не ожесточилась, никак его не наказала, продолжая ухаживать за ним так, как только умела. Она лишь стала осторожнее и, когда наступало полнолуние, принимала меры. Однако даже тогда она не пыталась его связать или запереть. Напротив, она сама пряталась или уходила, давая ему полную свободу. Никому другому это не угрожало, поскольку до ближайших селений было много часов пути.
Он так никогда и не узнал, как она оказалась посреди этой внушающей ужас пустоши и почему здесь поселилась. Она не была волшебницей, но и простой крестьянкой тоже не была. Она просила его, чтобы он ни о чем не спрашивал, и он уважал ее волю.
Шли месяцы, годы, большую часть времени он был здоровым, веселым мальчуганом, обожавшим играть и бегать, но временами, на несколько ночей в месяц, когда небо не было затянуто тучами, он превращался в кровожадное чудовище, беспощадно охотившееся на ту, кого он обычно называл «мама»…
Он рос и со временем начал замечать и понимать то, что с ним творилось. Однажды, вернувшись в человеческий облик, он принес ей букетик собранных в лесу цветов. Он просил прощения и плакал. Впрочем, он мог этого и не делать, ибо она никогда на него не сердилась.
Потом появилось отвращение к самому себе. Чувство вины и стыда росло вместе с ним, все усиливаясь. Он все больше любил Старую Женщину. Тем больше, чем в большей степени мог понять и оценить ее доброту. Любовь эта, соединяясь с переполнявшим его гневом, все сильнее подавляла сосредоточенный в нем заряд чуждой ненависти.
Читать дальше