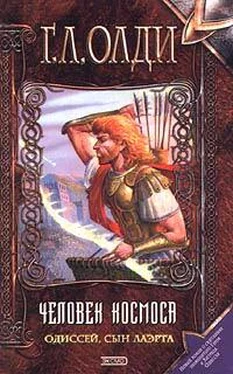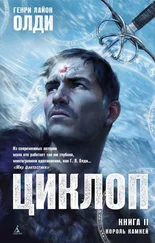Зеленая звезда, погоди. Не падай. Я скоро.
%%%
— ...Дядя, ты сто здесь делаес?
Над головой: ветка оливы. Серебристые листья с краю чуть подсвечены розовым. Легко трепещут на утреннем ветру. А выше, много выше — бескрайняя голубизна неба. Паруса облаков разорваны в клочья. Вставать совсем не хочется. Хочется лежать, смотреть на ветку оливы (...крыло совы? башню крепости?!), и дальше, выше — в небо.
К сожалению, нам редко удается делать именно то, что хочется.
— Сплю я здесь.
— Дядя-влуска! Дядя-влуска! Ты не спис. Ты глазки пялис.
— Ну, значит, не сплю. Проснулся.
Сажусь. Передо мной, выше пояса утонув в бурьяне, белобрысое чудо. Конопатое. На щеке ссадина. Гиматий на боку порван. Лет через десять отбою от парней не будет.
Чуть склонив голову набок, чудо смотрит на меня. Щурится:
— Дядя, ты засем в садик залез? Цветоськи класть?
— Я не залез. Я здесь гулял. А потом заснул.
— А мне мамка носью в садике спать не велит, — грустно вздыхает чудо. Но долго грустить скучно. — Зато гулять позволяет! Днем.
Я привалился спиной к стволу. Блаженная одурь сна еще бродила в голове; так бы всю жизнь просидел.
— А хочешь, угадаю, как тебя зовут?
— Угадай!
— Тебя зовут... тебя зовут... Медуза Горгона!
— Не-е-ет! — Восторг был беспределен.
— Ну, тогда тебя зовут... Химера!
— Нет! Не Химела!
— Ехидна? Ламия-Медноножка?! Ты меня съешь, да?!
— Глупый, глупый дядя! Меня зовут Пенелопа!
Ствол вдруг показался очень шершавым.
— Меня так папка назвал. В сесть басилиссы. Я когда выласту, зенюсь на Одиссее! Мне так все говолят, — видимо, в подтверждение своих слов, чудо запрыгало на одной ножке.
— На Одиссее не надо, — само вырвалось. — Он уплывет на войну, а тебе его ждать придется. Долго-долго.
— От меня не уплывет! — уверенно заявило чудо по имени Пенелопа. — А если уплывет, то быстленько вел-нется!
— А кто твои папа и мама?
Вопросы сыпались из меня, как из дырявого мешка. Не хочу вставать, вот и тяну время.
— Не знаес?! Глупый дядька! Мой папка — дамат Ментол, а мамка — Ксантиппа. Она за этим дволцом следит.
— А где они сейчас, твои папа и мама?
— Мамка тут, во дволце. А папка к больсой Пенелопе посол. Туда все поели. Больсая Пенелопа сегодня зенится!
— Как это: женится?! — Я едва не подскочил.
— Ты не знаес, как зенятся? — Чудо перестало скакать. Заинтересованно склонило голову к другому плечу. — Ой, куда ты, дядя?!
%%%
Дорога самоубийственно бросалась под ноги, прожитой жизнью уносясь назад. Щелкают по камням подошвы, клубится пыль: Троянский конь несется галопом. Не знаю, как быстро я домчался до своего дома. Влетел в распахнутые настежь ворота. Протолкался через толпу, запрудившую двор. Краем глаза успел заметить Эвмея с Филойтием: под плащами — кожа и бляхи доспехов. Еще десяток старых свинопасов. Взволнованный Ментор. Дальше! Дальше!..
Когда моя спина перекрыла распахнутые, как и ворота, двери мегарона, с внешнего конца коридора послышался ропот раздражения. Но сейчас мне было не до недовольства толпы.
...Я увидел свой лук.
В руках у Богатея.
Все остальное: застыла в напряженном ожидании шелуха, сдвинуты в угол столы, ровный ряд из двенадцати жердей с кольцами наверху — все это я увидел потом.
Пенелопа в этот миг могла выйти замуж хоть за Олимпийскую Дюжину разом, Итака могла пойти на дно. Небо и земля — трижды вернуть друг другу серебро приданого. Вряд ли это тронуло бы меня. Мой лук в руках другого! В глазах выжглось вечным, позорным клеймом: Богатей держит мой лук над огнем, медленно проворачивает и, возбужденно сопя, мажет древко жиром.
— Все равно не натянешь! — злорадно крикнул Мямля.
Цепкие пальцы сомкнулись на плече. Увлекли прочь от дверей, к ближней колонне. Вне себя от ярости, я рванулся, оборачиваясь и занося руку для удара: вместо сердца — Кронов котел, вместо души — алтарь, кишащий ядовитыми гадинами...
Вот оно, рядом: лицо Протесилая из Филаки.
«Живи долго, мальчик...»
Ярость неохотно отступила, свилась клубком в низу живота.
Свистящий шепот филакийца:
— ...где тебя носит?! Твои жена с нянькой — они совсем рехнулись! Полночи в гинекее просидел... Ты не подумай, рыжий, ничего такого! Говорили просто. А когда уходить собрался, твоя мне заявляет: все, мол, довольно! Нет сил ждать! С утра возвещу: кто мужнин лук натянет... А сама на меня смотрит, со значением. Улыбается...
Протесилай тесно прижал меня к колонне. Мощный, борцовский захват, жар дыхания. Нас теперь никто не видел (и, надеюсь, не слышал) — но я тоже не мог видеть творящегося в зале бесчинства. Чадят факелы на стенах: хихикают. Копоть разъедает балки: издевается. Очаг от стыда захлебывается горечью золы. Мой лук! Пусти, филакиец!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу