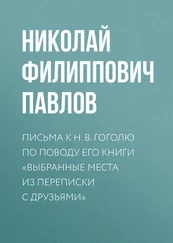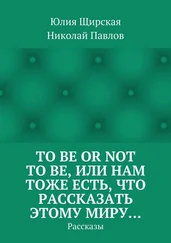На ней было белое газовое платье. Крепко прильнув к ее пышной груди, к гибкому стану, оно раскидывалось вдруг на тысячу небрежных складок и широко и важно ниспадало потом до ее ног, где обвивалась около него легкая серебряная гирлянда виноградных кистей. Как перевязь рыцаря, как подарок любви или награда за подвиг, опускался нежно с ее правого плеча под левую руку розовый шарф, и на нем светилась продольная кайма, серебряные листья винограда. Темно-русые волосы своими причудливыми кудрями не мешали полному сиянью красоты, не накидывали теней на мечтательную белизну лица, но спокойно, но просто уложенные по вискам оставляли переднюю часть головы для других украшений природы и все соединялись сзади в одну густую горизонтальную косу, на которой носилось по сторонам два газовых вуаля, розовый и белый, усеянные двумя мирами серебряных звезд. Несколько дрожащих локонов отпадало от этой косы, украденной у Древней Греции, с головы Дианы. В руке у графини был букет из разноцветных анемонов, называемых будто бы по-русски ветреницами, а на лбу сверкала утренняя звезда из бриллиантов. Однако же ничто в ней, кроме девственных красок наряда, не напоминало невинного утра, патриархальной простоты рассвета. Это была скорее звезда вечера, которая не умиляет души, а будит воображение и светит бессоннице. Ее главную красоту составляли блестящие глаза, блестящие в точном значении слова. Вечно в искрах, вечно в лучах, они не давали возможности вглядеться в их цвет. Бог знает откуда берется у нас этот необыкновенный блеск, это явление Юга. Зависит ли он от материального устройства органа, от чистоты стеклянной влаги, от прозрачности роговой оболочки, или сквозится тут какая-нибудь надменная часть души, – только никогда не приписывайте его неугасимой чувствительности сердца. У нас на севере блестящие глаза вероломнее тусклых – это не наша природа, это обман, искушение, это яркая вывеска все той же родной зимы, это тот же снег, но снег, подернутый солнцем.
И графиня не потупляла глаз… существо, которому судьба велела пронестись резво над землей и не заметить, что там делается, и не зацепиться ни за одну горесть. Ее длинные, переломленные кверху ресницы, ее дивно скругленный, чуть-чуть приподнятый, алый подбородок – все ее черты тянулись гордо к небу; и стоило вам быть у ног ее, чтобы она вас не увидала. Теперь, мне кажется, нельзя не отгадать, каким образом подействовали на нее щекотливые слова маски и что она чувствовала, когда неугомонный дядя, медленно опуская правую руку за жилет, а в левой перебирая часовую цепочку и, как жеманная невеста, наклонив двусмысленно голову, сказал самым сострадательным тоном:
– Друг мой, уже половина двенадцатого, – и вкрадчиво приподнял глаза на племянницу. Много было смысла в замечании старика, судя по ее умной, беспечной и сколько можно веселой усмешке.
Но что отвечать на истину, которая понятна и кстати? Как не наказать за правду? Графиня ударила его по пальцам своим букетом, бросила кому-то на плечо левую руку, скользнула раза два и исчезла, сливаясь с радужными отливами костюмов. Музыка невидимого оркестра стройными звуками разлеталась в благоуханном пространстве залы. Я ошибаюсь, это была не зала, самая бесхарактерная комната в доме!.. Что такое зала? Голые стены, ряд стульев, площадь, где семейная жизнь не оставляет ни следов, ни воспоминаний. Это была гостиная, обращаемая иногда в залу, это была зала в старинном уборе гостиной. Она сохранилась еще в том виде, какой нравился предкам; ее не исказил еще новый вкус и не ограбило разоренье. Легкий свод потолка, расписанного клетками, опирался на карниз, который с своими завитками коринфского ордена смело высовывался вперед и резко отделял округлую форму, подобие неба, от плоских линий земли. В вышине на противоположных концах было два таинственных углубления, загороженных ослепительными решетками бесчисленных свеч. Золотые стрелы амура сверкали из-под шелковых тканей над высокими и узкими окнами. Тяжелая бронза горела на малахитах и мозаиках. Но что более всего могло изумить разборчивого жителя Москвы, это предметы искусств, рассыпанные щедрою рукою, богатство, траченное не на одни чувственные наслаждения, это камин каррарского мрамора итальянской работы, это южное изящество ваз, это картины, которые от самого карниза вплоть до штофных диванов и кресел, мятых некогда бабушками, покрывали все стены. Не было промежутка, где б вы опомнились от волшебного обаяния мраморов, света и живописи. Там монах на молитве Рубенса, тут портрет Ван-Дейка, Венера Тициана… и если б вам захотелось злобно заглянуть под эти картины, вы не встретили б под ними голых признаков мелкой расчетливости: под ними тот же дорогой штоф, то же гордое богатство, которое золотит для себя, а не для вас. Наполните же эту гостиную или залу костюмами всех народов, всех веков и женской фантазии, одушевите блистательной толпою, лучшими перлами Москвы и забудьте, что есть другой мир, другая жизнь, и отдохните, без греха, от лохмотьев, от уличной грязи человечества, от бестолковых неурожаев. Бросьте сюда графиню с ее розовым и белым вуалями, которые вьются в вальсе так близко возле полуобнаженных плеч…
Читать дальше