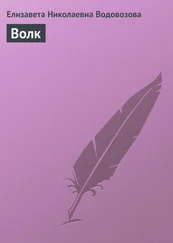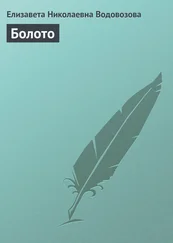Как-то вечером Алтаевы, не дождавшись посещения любимого монаха Варсонофия, обещавшего к ним зайти, позвали к себе Тоню для чтения. Она отвечала, что явится через несколько минут, наскоро оделась, вошла к ним в пальто и шляпе и заявила, что ей сегодня некогда читать, – она решила посетить подругу и ночевать у нее.
Алтаевы были так поражены этим решительным заявлением, что даже растерялись в первую минуту. Но когда дар слова к ним вернулся, то одна, то другая из них начала выкрикивать:
– Как ты смеешь так разговаривать с нами? Мы не знаем твоей подруги! Ты не можешь нас так опозорить!
– Если вы находите мое поведение предосудительным, вы можете сказать мне об этом завтра. В таком случае я немедленно телеграфирую опекуну, чтобы он приехал за мною, и поселюсь у него. Кстати, теперь рождественские праздники, и он свободен от занятий.
Она повернулась, чтобы уйти, а вслед ей старухи продолжали кричать:
– Как? Ты собираешься поселиться с холостым человеком? Да от тебя отвернется решительно все общество!
Когда Тоня после полугода жизни у Алтаевых в первый раз приехала к нам, я нашла ее похудевшею и побледневшею.
Тоня, будучи в педагогическом классе, посещала нас только по воскресеньям, да и то крайне редко. В первый раз она приехала к нам на журфикс во вторник, как раз в такое время, когда у нас, благодаря праздникам, должно было собраться особенно многолюдное общество.
И вот через час-другой все наши комнаты были переполнены преимущественно молодежью обоего пола, был кое-кто и из литераторов, а также и наш бывший инспектор в Смольном монастыре К. Д. Ушинский, знакомые дамы и между ними несколько моих подруг. Сели за чайный стол: собравшиеся мало-помалу все более оживлялись. Здесь и там сообщали новости городские и провинциальные, послышались смех, остроты, шутки, спор. Наконец гости сами бросились выносить в кухню самовар и посуду, сдвигали стулья и столы в комнату подле, и таким образом выгадывалось более места. Раздалось дружное хоровое пение. Выступали и солисты, и куплетисты, и импровизаторы, произносившие речи, в комическом виде изображая некоторые события из современной действительности, или стихи экспромтом, правда нередко сочиненные заранее. Но когда начались танцы, тут уже веселье достигло своего апогея. Танцы играли на фортепьяно два студента в четыре руки, а подле них сгруппировались аккомпаниаторы – молодые люди с балалайками.
Ко мне подсела Тоня, вся раскрасневшаяся от танцев, с блиставшими от удовольствия глазами. Наклоняясь ко мне, она заговорила:
– До чего у вас весело! Счастливая, счастливая! Посмотри! Даже Ушинский танцует кадриль! Правда, он только расхаживает, но его обычной суровой серьезности точно и не бывало! Господи! хохочет! Ну, этого я уже не могла себе представить!
В эту минуту ее кто-то потащил за руку и поставил в круг танцующих.
Я присела в уголок к маленькому столику, чтобы поболтать с Евгениею Карловною Гаидебуровою, которая пила чай. Ко мне опять подбежала Тоня и проговорила, обращаясь к ней:
– Простите, что я утащу ее от вас.
– Берите, берите… Я сию минуту покончу с чаем и сама явлюсь к вам.
– Знаешь, вот тут, – объясняла мне Тоня, указывая на небольшой кружок молодежи, сидевшей, сгруппировавшись, в маленькой комнате, – идет игра в загадки и разгадки. Тот, кто не сумел разгадать, должен по присуждению окружающих рассказать что-нибудь из прошлого, но именно такое, в чем ему трудно сознаться.
Хотя после первых лет шестидесятых годов обычай без утайки говорить в глаза окружающим все, что только придет в голову, стал ослабевать, но пока он еще держался: грубость нигилизма уже сглаживалась, но его основа осталась. Я очень боялась, что до ушей щепетильной Тони, никогда не бывавшей в такой бесцеремонной компании, дойдет что-нибудь, что будет ее шокировать. Когда мы очутились в этой группе, очередь рассказывать о своих прегрешениях оказалась за Зариным, молодым человеком лет 28, с симпатичным лицом, на котором оспа оставила заметные следы. «Будьте же добросовестны, – кричали ему со всех сторон, – чистосердечно расскажите о ваших грехах молодости!»
– Не можете же вы требовать от меня, господа, чтобы я перед всей честной компанией взял да и открыл крепко-накрепко замкнутый сундук со всеми моими прегрешениями? Мне самому до смерти совестно вспоминать о многом.
– Так вытягивайте из него что-нибудь комичное!
– Почему же только комичное? Можно и трагическое.
Читать дальше