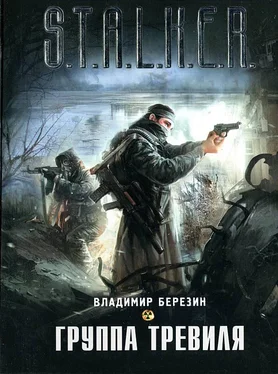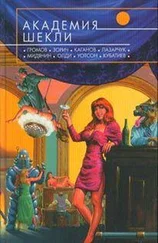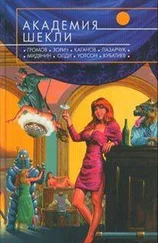1 ...5 6 7 9 10 11 ...121 Мы были группой де Тревиля.
Так нас звали на факультете вполне в открытую, некоторые с завистью, а прочие с восхищением.
Девчонки так и таяли — ещё бы, мы копались в самом сокровенном — в человеческом мозгу, обещая сделать всех умнее (так они это понимали).
Самые красивые были на географическом факультете, самыми статными были биологини, филологини были утончёнными и в моду входила возвращённая литература, и одна третьекурсница как-то пересказала мне ночью всего «Доктора Живаго», не переставая заниматься… Впрочем, я увлёкся.
Моё прозвище было вполне заслуженным, хотя с тех пор я потерял на него право.
А теперь Маракин умер.
Я слышал, что он долго и тяжело болел, редко появляясь на кафедре. Были какие-то аспиранты, звёзд с неба в общем-то не хватавшие, его имя периодически выкидывали мне на экран поисковые машины — неизменно вторым или третьим в списке авторов. Маракин никогда не ставил себя первым в совместных работах.
Кажется, он так и не нашёл нам замены, и дело было не только в том, что рынок зачистил советскую науку, как звено вертолётов — афганскую деревню. Причины были куда более грустными — в несколько приёмов жизнь доказала несостоятельность Главной Идеи. То есть Маракин сделал многое на подходах, и мы сделали многое, но идея ускорителя, то есть встроенного, вернее выращенного внутри человека компьютера оказалась несостоятельной. Это было подобно странным экспериментам тридцатых, когда военные пытались скрестить танк с самолётом. Тогда приделывали к танкетке крылья, и пытались учить её летать.
Даже что-то выходило, но оказалось, что проще и дешевле возить технику внутри самолёта.
Так и здесь — компьютер оказался сам по себе, а человек сам по себе.
Мы жили в условиях компьютерного дефицита, так и шутили «персональный компьютер общего пользования» — потому что на слабенькие «эйтишки» записывались в очередь: молодые — в ночь, а уж всякие кандидаты — в удобное дневное время. А сейчас в кармане любого гопника лежит компьютер куда мощнее той бортовой машины, что осуществляла посадку на Луну.
И вот Маракин сломался — этого уже, слава богу, я не видел, а знал с чужих слов.
Он не начал пить (есть такой особый род профессорского пьянства, внешне респектабельного, но выедающего душу), так вот, оно его миновало. Но он как-то выгорел изнутри.
Это был старый стиль учёного шестидесятых годов — альпинизм и горные лыжи, отличный английский язык, автомобиль в те годы, когда автомобиль был роскошью, а не средством передвижения — все глухие стены сломаны и вселенная у тебя на ладони… И после своего поражения с привычным блеском он читал лекции, даже куда-то ездил. Приглашений было много, хотя над ним уже горел серый нимб основоположника красивой, но неудачной теории.
Да, с его дочерью случилась тогда трагедия, одно наложилось на другое, но, положа руку на сердце, он не был хорошим отцом. Вернее, он не был отцом, имея при этом не то пять, не то шесть детей. По-моему, всех этих брошенных детей он просто не замечал.
Он жил как диплодок с откушенной головой — по инерции продолжая двигаться в заданном направлении. Правда, палеонтологи мне говорили, что эта метафора неверна, но мне всё равно она нравилась.
Маракин жил и жил, а вот в последний день апреля, вернее, в Вальпургиеву, прости Господи, ночь, жить перестал.
Его нашли на даче, он сидел на веранде и смотрел на крону посаженного им клёна. Сосед окликнул его раз, потом второй, обиделся на молчание, а потом всё понял.
И вот я прилетел хоронить своё прошлое.
Моё прошлое умерло, настоящее было заключено в спортивной сумке на плече, а будущего у меня вовсе не было.
Знакомство с хозяином у меня было странным. Если бы Планше вспомнил его фамилию, то наверняка полез бы знакомиться заново. Мы все учились вместе, и Планше наверняка помнил нашего комсомольского секретаря. Но, слава богу, Планше оказался стремительным человеком с памятью лишь на актуальное .
С комсомольским секретарём мы дружили давно, а теперь оба находились в каком-то пространстве неудивления. Мы не удивлялись ни нашим паспортам, ни гражданству, ни то возникающему достатку, то случающемуся безденежью.
В университете его звали Рошфором — зато, что он рано вступил в партию, работал на советского кардинала, незримую субстанцию, называемую «власть». «Власть» переменилась, и он стал работать на новую, всё такой же аккуратный, прилежный, завтракающий в галстуке, ужинающий в галстуке, спящий… Ну, наверняка он и спал в галстуке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу