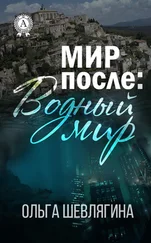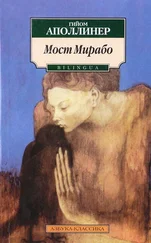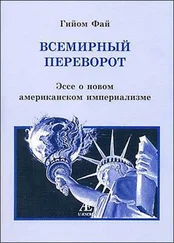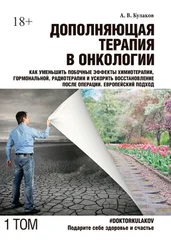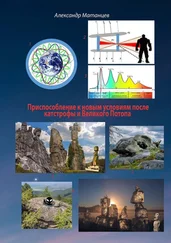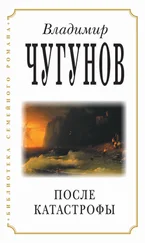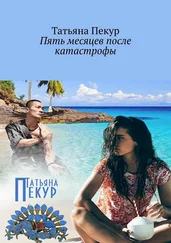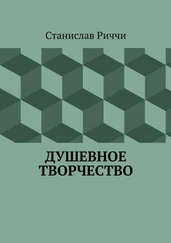2. Вторая серьёзная ошибка — эксплуатация и политизация язычества. Начав с верного ницшеанского положения насчет эгалитарной, уравнительной и этномазохистской вредности христианских проповедей, новые правые создали корпус неоязыческих текстов, имеющих свои недостатки. Странным образом, бессознательная отправная точка этого неоязычества была вполне христианской по духу — ответом доктриной на догму. Язычества как такового не существует: есть лишь различные, потенциально бесчисленные виды язычества. Новые правые представляют себя «языческой церковью», не имеющей, кстати говоря, никакого божества. Однако язычество по самой своей природе не может служить метаполитическим знаменем, в отличие от христианства, ислама или иудаизма.
Второй недостаток: ожесточённое антикатоличество (хотя правильнее было бы относиться к нему с безразличием), временами граничащее с антиклерикализмом, при открытой симпатии к исламу. Это рискованная позиция, ведь Европа сталкивается с реальной исламской угрозой, и довольно абсурдная идеологическая установка, ибо ислам — жёсткий теократический монотеизм, «религия пустыни» в своей самой строгой форме — куда строже классического католического генотеизма, сильно смешанного с языческим политеизмом. Более того, сущность языческой точки зрения, состоящей в позиционировании себя не «против», но «за» или «вместе» с кем–то, производит гораздо более конструктивное впечатление. Лично я стал действовать именно так, а новые правые так и не исправились.
Третий недостаток: это язычество было и, кажется, все ещё наполнено формами фольклора, не нашедшими себе места в реальной европейской культуре (в отличие от американской!). С этим я пытался мягко бороться, но всегда безуспешно.
В итоге, одни потенциальные сторонники так и не посмотрели на новых правых, а другие от них сбежали. Почему? В первую очередь, потому что многие не могли понять предпочтение язычества многим более важным и конкретным политическим проблемам: например, разрушению европейской этносферы и мазохистской политике правительств, направленной против рождаемости. Другое следствие: в результате пропаганда язычества в СМИ, особенно во Франции, стала вызывать отвращение. Открытые отсылки к язычеству «напоминают людям секту», как мне однажды сказала одна великая французская актриса, втайне близкая идеям новых правых, но не желавшая, как и многие другие, смешивать политическую идеологию с околорелигиозными элементами. Можно осуждать такую позицию, однако некоторые правила пропаганды игнорировать нельзя.
Что до нападок на католическую церковь, то в прошлом — да и сейчас — их лучше было бы направить на околотроцкизм, потворство иммиграции и боязнь собственной национальности высшего духовенства, желающего вернуться к жесткому рвению христиан древности, «большевизму античности». Это мазохистское и глупое высшее духовенство, ложно раскаиваясь, с радостью воздвигнет мечети на европейской земле!
На мои взгляды повлияли две книги: «Антихрист» Ницше и «Боги Греции» Вальтера Отто [31]. Кроме того, важен был инициатический «дельфийский обет» Пьера Виаля в начале 80–х. На восходе у святилищ Аполлона последователи из Греции и Бургундии, Тосканы и Баварии, Бретани и Валлонии, Фландрии и Каталонии поклялись сохранить языческую душу . Всё это очень хорошо, но языческие обряды такого рода должны оставаться внутренними делами.
Языческая душа — это внутренняя сила, которая должна пропитать все идеологические и культурные выражения. Она подобна сердцу ядерного реактора — её не следует выставлять напоказ лозунгами. Язычник не разглагольствует «Я язычник!», язычник просто является таковым.
В общем, я думаю, что это продвижение язычества как околополитического знамени озадачило естественную аудиторию новых правых, как будто целью было отвлечение внимания от второстепенных проблем, а также начало искусственного конфликта с «традиционными католиками», которые не такие уж и христиане… Использование язычества было огромной коммуникационной и пропагандистской ошибкой, отдалившей новых правых от многих католических движений, изначально благожелательно настроенных к ним, разделявших их идеи, но сентиментально привязанных к местным традициям. Мы сделали эту серьёзную ошибку в самом начале, и она остаётся неисправленной.
3. Третья ошибка — слишком сильный акцент на фольклоризме и чрезмерный культ корней . Душа европейской творческой культуры не в маленьких пирамидках из обожжённой глины, не в раскрашенной мебели из Шлезвиг–Гольштейна, бретонских капорах или наивных деревянных скульптурах скандинавских фермеров. Она скорее в Реймском соборе, двойной спиральной итальянской лестнице в Замке Шамбор, рисунках Леонардо да Винчи, комиксах Либераторе и брюссельской школы, дизайне Феррари и немецко–франко–скандинавских ракетах «Ариан–5». Сведенная к простому фольклору, европейская культура обесценивается и падает до уровня «примитивного искусства», столь любимого Жаком Шираком. Необходимо было, пользуясь ницшеанской антиэгалитарной логикой и картезианским «здравым смыслом», утверждать о превосходстве — именно так, превосходстве — европейских художественных и культурных форм по сравнению с любыми прочими. Однако этому мешала этноплюралистическая догма, противоречащая антиэгалитаризму . Слишком сильно веря в этнокультурное родство и проникшись столь распространённым мазохистским комплексом вины, мы не осмеливались утверждать о превосходстве нашей собственной цивилизации. Сделав это мягко, мы бы понравились широким массам, пораженным нашей смелостью.
Читать дальше