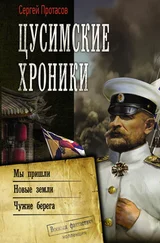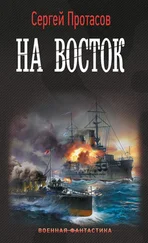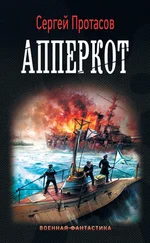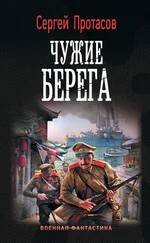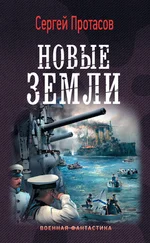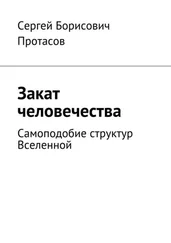При стрельбе торпедами в то время применялась стрельба одной торпедой. Залповых стрельб не было. Прицеливание производилось в середину корпуса корабля неприятеля. Поправки на скорость почти не учитывались, поэтому вероятность попадания была небольшой.
Подобный принцип торпедной стрельбы прорабатывался в русском флоте с начала XX века, а практически был применен в годы Первой мировой войны.
На броненосце «Наварин» стояли устаревшие нескорострельные орудия, а башни главного калибра не были полностью уравновешены, в результате чего при их развороте образовывался небольшой крен на стреляющий борт.
Запрещалась стоянка в трехмильной зоне территориальных вод нейтральных стран.
Столь многочисленной среднекалиберной батареи не было ни на одном корабле, до появления дредноутов.
Во Владивосток современные дальномеры попали уже после войны, а на крейсерах Иессена стояли угломеры Мякишева, малоэффективные в принципе и почти бесполезные на средних и больших дистанциях.
Такие казематы были установлены на «России» и «Громобое» во Владивостоке летом 1905 года. Они обеспечивали защиту только от осколков.
На самом деле, за весь поход было проведено только несколько попыток совместных эскадренных маневров и тренировочных стрельб. При этом никакого анализа учений не проводилось. Зато нагоняи сыпались как из рога изобилия.
Резервные экипажи миноносцев прибыли с Черного моря, но были плохо подготовлены, не знали кораблей, и потому их использовали для различных работ.
Никаких попыток избавиться от перегрузки кораблей предпринято не было. В результате главный броневой пояс полностью ушел в воду. Более того, перед боем на некоторых новейших броненосцах было принято около 500 тонн воды в кормовые отсеки для улучшения управляемости, а все шлюпки заполнены водой для целей пожаротушения. Это дало дополнительную перегрузку, снизив и без того крайне низкую, в подобных условиях, боевую живучесть. Шлюпки были разбиты, и вся вода из них стекла вниз, разлившись по броневой палубе и перетекая от борта к борту при перекладке руля, снизив до критического уровня остойчивость кораблей.
При погрузке угля угольная пыль проникала всюду, оседая на прицелах и механизмах орудий, приводя их в негодность. Поэтому их очень тщательно закрывали, что не позволяло быстро открыть огонь при появлении противника. Кроме того, при бункеровке отдраены все водонепроницаемые люки и горловины угольных ям и палуб над ними.
Сучанский уголь, добывавшийся недалеко от Владивостока, не уступал по качеству английскому боевому, но разработка месторождения только начиналась, и железной дороги к нему не было.
На основании технических характеристик и мореходности японских миноносцев и всех неудобств походной жизни в приказе доказывалось, что для поддержания максимальной боеспособности всех сил своего флота японцы не будут слишком удаляться от своих баз. В реальной истории этого приказа, конечно, не было.
Японцы теоретически могли располагать воздухоплавательным парком, так как еще до объявления войны 25 января 1904 года ими был захвачен русский пароход «Маньчжурия», перевозивший воздухоплавательное снаряжение в Порт-Артур и стоявший на бункеровке в Нагасаки. При этом японцы проявили поразительную осведомленность о характере груза судна.
На самом деле, накануне провели лишь неудачные учения по эскадренному маневрированию, снова без разбора ошибок. А боевой приказ сводился, по сути, к одной фразе: «Прорываться во Владивосток» и не имел четких инструкций, за исключением той, что предписывала заменять вышедший из строя из-за боевых повреждений головной корабль следующему в строю.
До русско-японской войны в русском флоте не учили управлять отрядами кораблей и эскадрами вообще! Каждый флагман учился этому лишь на практике согласно своего разумению и способностям.
Когда Рожественский входил в Цусимский пролив, японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару» наткнулся в тумане на отставшее госпитальное судно «Орел» и хотел захватить его, для опроса команды, хотя оно несло все знаки, показывавшие его принадлежность к Красному Кресту! Однако при сближении японцы наткнулись на наши броненосцы и в течение сорока минут шли незамеченными параллельными курсами, передавая их координаты, курс и скорость совершенно беспрепятственно. Рожественский приказал не глушить японские передачи, чтобы не выдать противнику нашего местоположения!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
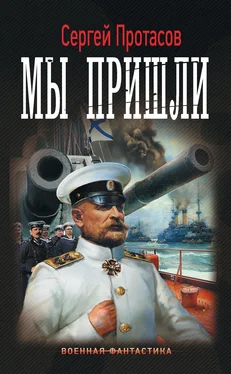
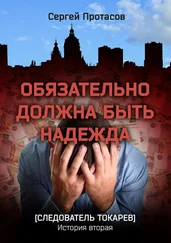
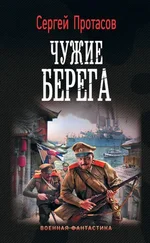
![Сергей Протасов - Новые земли [litres]](/books/422014/sergej-protasov-novye-zemli-litres-thumb.webp)
![Сергей Протасов - На восток [litres]](/books/430022/sergej-protasov-na-vostok-litres-thumb.webp)
![Сергей Протасов - Цусимские хроники - Мы пришли. Новые земли. Чужие берега [сборник litres]](/books/436040/sergej-protasov-cusimskie-hroniki-my-prishli-novy-thumb.webp)