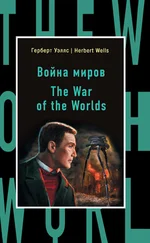Он на мгновение умолк, глядя, как туман в глубоких ущельях вспыхивает, пронизанный лучами восходящего солнца, превращается в светящиеся облака и тает.
— Да, — повторил он, — я боюсь наркоза, боюсь этих лохмотьев жизни. Жизнь — вот чего мы все страшимся. Смерть! Смерть не страшна никому. Фаулер — искусный хирург, но когда-нибудь хирургия будет лучше понимать свой долг и не будет так стремиться к тому, чтобы спасти… спасти лишь потому, что еще теплится что-то. Я старался держаться до конца, как должно, и делать свое дело. Я знаю, что после операции работа будет мне уже не по силам. Так что же мне тогда останется? Да, я знаю, что буду уже не способен работать…
Не понимаю, почему надо так дорожить последней, волочащейся по земле ниточкой размотанного клубка жизни… Я, калека от рождения, знаю, что жизнь прекрасна. Я знаю это слишком хорошо, чтобы не путать ее зерно с мякиной. Запомните это, Гарденер. Быть может, в последнюю минуту у меня не хватит духу, и я впаду в отчаяние, и конец мой будет омрачен неблагодарностью и малодушным забвением всего, кроме боли… Не верьте тому, что я, быть может, скажу тогда… Если ткань хороша, то ее обтрепанный край не имеет значения. Не может иметь значения. Пока мы существуем, мы существуем только в каждое данное мгновение, но после смерти мы — вся наша жизнь от первого вздоха до последнего.
Вскоре, как пожелал Каренин, к нему стали приходить люди, и, беседуя с ними, он смог снова забыть о себе. Рэчел Боркен довольно долго сидела с ним на террасе, разговаривая преимущественно о жизни женщин. С ней пришла девушка по имени Эдит Хейдон, уже завоевавшая себе широкую известность как цитолог. Кроме них, у него побывали молодые ученые, работавшие там, поэт Кан — больной, и Эдвардс, театральный художник. Беседа переходила с предмета на предмет и становилась то глубокой, то поверхностной, в зависимости от темы. А потом Гарденер записал все, что ему удалось запомнить, так что мы можем еще раз ознакомиться с мировоззрением Каренина, узнать его взгляды и отношение ко многим важным сторонам жизни.
— Мы жили до сих пор в эпоху смены декораций, — сказал он. — Мы готовили сцену, очищали ее от реквизита уже разыгранной и прискучившей драмы… Если бы мне удалось посмотреть хотя бы первые явления нового спектакля!.. Как страшно загроможден был мир! Он страждал, как стражду сейчас я, под все растущим ненужным бременем. Он был запутан, сбит с толку, он был в смятении. Он мучительно жаждал освобождения, и, быть может, ничто уже не могло освободить его и оздоровить, ничто, кроме ярости и насилия атомных взрывов. Вероятно, они были необходимы. Подобно тому, как в пораженном болезнью организме постепенно воспаляется один орган за другим, так, мне кажется, в старом мире загнивало в последние годы его существования все. Устарелые формы общественной жизни подчиняли себе, порабощали все новое и прекрасное, что дарила миру наука. Национализм, всевозможные политические организации, право собственности, институты, церкви и секты присваивали себе новые силы, сулившие неограниченные возможности, и обращали их во зло. Они не терпели свободной речи, они преграждали путь образованию, они не могли позволить никому подняться до задач нового времени… Вы молоды, и вам не понять, какое отчаянное возмущение и безвыходное отчаяние владело нашими душами — душами тех, кто верил в безграничные возможности науки в канун открытия атомной энергии…
И суть не только в том, что большинство людей не могло понять, не хотело слушать, — в том, что у тех, кто понимал, не хватало веры. Они видели все, что происходило, они обсуждали это и не могли сделать вывода…
Недавно я перечитывал старые газеты. Просто поразительно, как наши отцы относились к науке. Они ненавидели ее. Они ее боялись. Они позволяли существовать и работать лишь какой-то жалкой группке ученых… «Пожалуйста, не делайте нам никаких открытий о нас самих, — говорили они им, — не заставляйте нас прозревать, оставьте нас в покое в нашем узком привычном мирке, не пронзайте его ужасным лучом вашего познания. Но изобретайте для нас разные фокусы — не слишком серьезные, в пределах нашего понимания. Дайте нам дешевое освещение. И научитесь лечить нас от некоторых неприятных болезней — от рака, от туберкулеза, от насморка — и найдите нам средство от ожирения…» Мы все это изменили, Гарденер. Наука перестала быть нашей служанкой. Мы чтим ее как нечто более высокое, чем наши отдельные личные судьбы. Это пробуждающийся разум человечества, и скоро… скоро… Как мне хотелось бы еще посмотреть — теперь, когда занавес уже поднят…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу