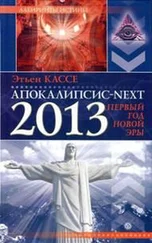В происходящем на экране виделся мне признак иного мира, вратами своими выбравшего разомкнувшиеся, раздувшиеся от усердия губы девушки, избавленного от всего мягкого и позволяющего себе только нечто напряженное, твердое, раздувшееся, набухшее, насытившееся, разрывающееся от влажной натужности, блуждающее в сонном забытьи, прерываемом лишь появлением новой возможности судорожного излияния. В этом вдохновленном буйстве признавалось исключительно увлеченно округлое, чванливо вздымающееся, сладостно сочное, заманчиво липкое и она вполне соответствовала всему тому. С молчаливой, деятельной, порывистой сосредоточенностью набрасывалась она на член, отрывалась от него, оставаясь связанной с ним шелковой нитью блестящей слюны, всматривалась в его предвечную темноту, снова опускалась, вбирая его, предвестника насекомых упрощений, сияющего золотистым предостережением об упадке, утопающего в пузырящейся слюне и казалось, что нет в мире занятия, которому она дарила бы время с большей щедростью. Все движения ее отличались самоуверенной, расслабленной, мягкой и точной небрежностью, отличающей не столько опыт, сколько всемерное расположение к занятию, наличие дара особого, драгоценного, представляющего собой сочетание всех приобретенных особенностей, подтвержденного как природой, так и всеми другими силами, наличествующими в мироздании. Легкость, с которой художник делает набросок на салфетке привокзального кафе, волнующая радость музыканта, мягким прикосновением к клавишам позабытого пианино выбивающего из них пыльную сонату, сосредоточенная оторопь снайпера, через много лет после войны взявшего в руки винтовку. Подняв губы над блестящей влажной головкой, напряжение в которой могло бы сплотить иные недоверчивости, она повернулась к мужчине и произнесла нечто, способное быть только предложением. Радужными горизонтальными линиями вспыхнули помехи, неистовыми стаями разбрелись по экрану, преследуя скрывающуюся в пространствах между его точками добычу, еще один кадр пробился ко мне определимым образом, позволив увидел девушку, стоящую на четвереньках над мужчиной, затем изображение сменилось на мгновение увлеченной разноцветными полосами темнотой, после чего и вовсе исчезло. Никогда не следует доверять важные записи дешевым и ненадежным носителям.
В тот вечер она вновь пожелала испытать на мне свою похоть и после получаса слюнявых стараний, когда я, почти уже засыпая, узрел сквозь подступающую темноту кадры подсмотренного мной, радостный крик жены вырвал меня из влюбленной полудремы.
– Он дернулся! – она вскочила, села на колени, пораженно всматриваясь в моей член, словно был он цветком, распускающимся один раз в тысячелетие. – Я почувствовала, он дернулся!
Зарычав, она с еще большей яростью набросилась на него, но успех не повторился. По истечении часа она устала и, тяжело дыша, легка рядом со мной, прижимаясь к моему боку горячими грудями, пересчитывая мои ребра окаменевшими сосками. Руки ее гладили меня, пощипывая мои соски, но не касаясь члена, словно боялись более беспокоить его и предпочитали дать ему отдохнуть после усилия, представавшего немыслимым в настоящих обстоятельствах.
– Я почувствовала, как он дернулся! – шептала она, изнывая от радости моряка, умирающего на открытом им острове. – Скоро все будет как раньше.
Сам я не ощутил того, о чем она говорила. Никакого изменения не наблюдал я в себе, не появилось во мне ни силы, ни твердости. Возможно, близость непритязательных сновидений отвлекла меня от собственных переживаний и я упустил мгновение плодоносной вспышки или в незначительности своей она позволила ощутить себя только языку Ирины, подвижному, как плавники морского конька, чувствительному настолько, что мог он пересчитать крупинки соли, обрушившиеся на него. Распутная темнота кружилась, смеялась, позволяя мне выбирать между сном и любой другой пустотой и я не был уверен в том, которая показалась мне предпочтительнее.
Вернулся я к действительности лежа на спине, как будто за всю ночь не поменял положения. Но в конечностях моих не было ничего, кроме ставшей уже привычной мягкотелой слабости, не имелось в них ни покалывания застоявшейся крови, ни усталости судорожного напряжения. Еще не прислушавшись, не впитав в себя пространства квартиры, я уже понял, что был в ней один. Впервые за все дни после катастрофы я проспал уход моей жены и счел то знамением благоприятного будущего, убедив и себя в том, что была она права и действительно ощутила минувшей ночью биение грядущей страсти, как другие женщины – первый удар о матку пятки нежеланного ребенка.
Читать дальше