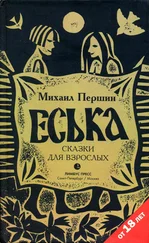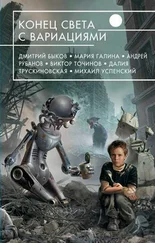Основой работы Адамс-лаб стала идея о том, что, как бы ни была незаметна клюп-частица, она не может не оставлять следа. Как, собственно говоря, ничто в этом мире не проходит бесследно . Последнюю мысль можно было бы по справедливости отнести к числу общих мест и глубокомысленных банальностей, сплошь и рядом используемых авторами литературных произведений, подобных ныне читаемому. Однако именно на таких очевидностях и порой, прямо скажем, благоглупостях и базировались все расчеты группы Адамса. Интеллектуальная мощь этих полутора дюжин головастых ребят сказалась именно в том, что им удалось перевести суть подобных незамысловатых афоризмов на язык строгих формул и, в конечном счете, не только доказать существование мельчайшей крупицы вещества (что и так было понятно: раз есть кирпичи, то должна быть и глина, из которой они слеплены), но и составить алгоритм расчета средней концентрации клюп-частиц в окружающем пространстве (или, иначе, клюп-плотности)! Хотя и это – не совсем точное название. Никто ведь не фиксирует сами эти частицы, а, так сказать, – намек на тень отпечатка их следов. Так что нельзя рассчитать: «Их в одном кубическом метре (или микроне, не суть важно) – столько-то тысяч (или квадриллионов, опять же не суть)». Это скорей – как если смотришь на снегопад: сколько снежинок, не сосчитать, но можно оценить, густо снег идет или, так, слегка сыплет. Такое почти интуитивное ощущение более или менее интенсивного мельтешения частиц в пространстве и было названо клюп-плотностью .
Вот на проведение подобных работ, пусть, и в не столь глобальных масштабах, и направил директор МиМаМи Павел Кубанцев свежеиспеченного кандидата физматнаук (забежим чуть-чуть вперед и скажем, что защита прошла вполне успешно). И, кстати, академик Гарт не возражал. Напротив, на устроенном Женей банкете он произнес тост в том духе, что за минувший год ему посчастливилось стать автором двух открытий: пятна (вместе с профессором Шнайдером) и Жени Беркутова (самолично).
Прошло четыре года. Да, ровно четыре. Опять, как тогда, осень.
Мы застаем семейство Беркутовых в несколько измененном составе: у них временно живет дедушка, Антон Сергеевич Беркутов. За несколько лет до этого, еще до начала нашего рассказа, умерла его жена, мама Жени, и он, еще не старый мужчина, жил один. Но когда, при первых заморозках поскользнувшись на льду, Антон Сергеевич сломал ногу, дети решили его взять к себе.
Теперь дедАнтон с загипсованной ногой получил возможность восполнить многое, на что в здоровом состоянии у него не было времени: читать не урывками, смотреть кино не кусочками и, самое главное, вдоволь общаться с внучкой. Богатый учительский опыт помог Антону Сергеевичу легко найти общий язык с Катей. Вообще, у них началась какая-то своя, отдельная, жизнь. Например, они начинали смеяться, когда ничего смешного, с точки зрения остальных, не происходило. Женя спрашивал:
– Пап, что смешного? Расскажите, нам тоже интересно.
На это Антон Сергеевич обычно отвечал:
– Нет, ничего, это мы о своем, о д е́ дучьем .
Нетрудно заметить, что свою тягу к каламбурам Женя унаследовал от отца, да еще и развил это качество: тот ограничивался прозой. Кстати, происшествие с отцом вдохновило Женю на такое четверостишие:
Ледовая тропа гладка.
Теперь сиди и гипс свой гладь-ка!
Да только, не было б катка,
Без дедушки скучала б Катька.
По средам и субботам Катя ходила на рисование. В среду ее отводила мама, а в субботу – папа.
В очередную среду Антон Сергеевич сидел и наслаждался документальным фильмом о кулинарии в Древнем Риме. От аппетитных подробностей у него уже начало у самого посасывать в животе, как раздался звонок в дверь.
Инвалид, кряхтя и ворча, оперся на костыли и поковылял в коридор. Ворчал он по поводу закономерности случайности, приведшей нежданного гостя именно тогда, когда он был один в квартире.
Но в этом не было случайности, а одна лишь закономерность. Катина учительница, Ника Аркадьевна, окольными вопросами выяснив у Кати их семейное расписание, специально выбрала время, чтобы поговорить с дедушкой один на один.
Так вот, Ника Аркадьевна.
Она вошла, извиняясь, что побеспокоила больного, который, в свою очередь, извинялся за то, что не может напоить ее чаем и вообще принять должным образом. Единственным доступным ему жестом гостеприимства было выключение телевизора.
Читать дальше
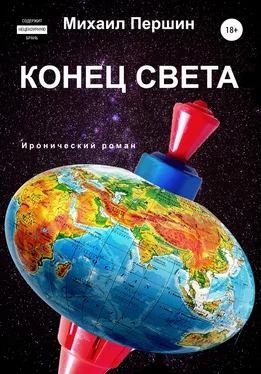

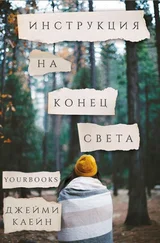
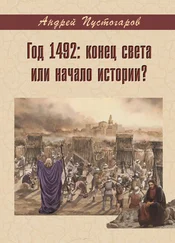
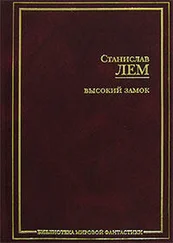
![Игорь Тихорский - Лунный свет[ Наваждение Вельзевула. Платье в горошек и лунный свет. Мертвые хоронят своих мертвецов. Почти конец света]](/books/86984/igor-tihorskij-lunnyj-svet-navazhdenie-velzevula-thumb.webp)