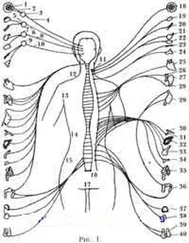Тарновский невольно втянул голову в плечи.
– А что? что такое? Что-то еще?
Тени загустели, застыли складками,
– Следят за мной, Саня, – Дзюба поежился, зябко, как-то беспомощно, сердце болезненно дрогнуло.
– Кто?
– Канадец в пальто. – Дзюба протянул руку за пределы экрана, вернул со стаканом, отхлебнул. Сквозь холеную непроницаемость лица резко и грубо проступили-набрякли складки, морщинки, мешочки. – Сначала думал – показалось, а потом понял: нет – действительно следят.
Тарновский подался вперед, впился глазами в экран.
– Ты… уверен? – он ощупывал друга взглядом, монохромным маячком пульсировала надежда. – Может быть, все-таки…
– Да нет, не может. – Дзюба помрачнел еще больше. – Я – воробей стреляный, в девяностые всякого насмотрелся. Да и ни с чем это не перепутаешь: тревожно как-то, не по себе. Противно – будто в затылок кто-то дышит. И началось все как раз три дня назад, делай выводы. – он салютовал стаканом, отхлебнул. – Так что, про машину времени или перпетум-мобиле – вполне себе версия, имет право… Черт! я здесь с ума с вами со всеми сойду!..
Тарновский всмотрелся в лицо на экране, прислушался к себе, к странному и приятному возбуждению. Захотелось, чтобы Дзюба поволновался еще, разволновался в слезы, в сопли, в кровь, захотелось увидеть его сломанным, раздавленным, побежденным, молящим о пощаде. Униженным, размолотым жерновами отчаяния и страха. Впрочем, все это в ту же секунду исчезло, оставив растерянность, раскаяние; неожиданно он почувствовал себя старше, много старше, себя самого и Дзюбы, сердце дрогнуло, зашлось.
– Ну, ну, – он заговорил бодро, фальшиво, видя себя со стороны, остро и болезненно презирая, – было бы с чего так переживать! Нормально все будет, Серега, вот увидишь!
– Хорошо, если увижу. – Дзюба придвинулся к монитору, заговорщицки понизил голос. – Теперь слушай сюда, синьор оптимист. Массивы твои последние я, все-таки, обработать успел, у меня они, на флешке. А флешка – в тайнике, а тайник – в лабе. Так что, жди. Наверно, уже завтра, ближе к вечеру. Если никакой оказии не подвернется, что вряд ли – обложили, как волка. Как тебе такой вариант, прокатывает?
Тарновский, изобразил радость, попутно отметив в лексиконе друга новое слово. «Прокатывает» – как символично. Что ж, Дзюба всегда любил ввернуть при случае понравившееся словцо, выуженное в сленговой полифонии рунета. Приводя в замешательство русскоязычных коллег и ставя в тупик переводчиков. Тарновского и самого поначалу коробила лингвистическая развязность друга, но вскоре он привык, увидев за маской эпатажа способ коммуникации с Родиной, своего рода попытку – хоть и опосредованной, и виртуальной, но – репатриации. Впрочем, ничего экстраординарного, все в рамках стандартной эмигрантской травмы. Беда была в том, что человек, не способный быть счастливым на Родине, не сможет быть счастливым уже нигде…
История Дзюбы хоть и не претендовала на оригинальность, тем не менее, была не вполне типична для 90-х со ставшими уже привычными депрессиями, деградациями, деструкциями, уходом из профессии. Он покинул Москву, уже на излете эпохи, в отличие от своих менее титулованных коллег званый и востребованный всюду. И бежал он не от безденежья и безработицы, – он и вообще предпочел бы определению «бегство» «отъезд». Но себя, судьбу не обманешь – он все-таки бежал. От себя, от собственной бесполезности, бессмысленности, безысходности. Ненужности, неважности, неприменимости и неспособности с этим примирится. От унижения и обиды. Бежал зряче, обдуманно, зло. Имея вид на жительство, контракт на курс лекций и фигу в кармане – только бы побольнее уколоть, досадить этой безумной, безмозглой, бездарной, самодовольной власти. Ткнуть в глаза и оставить с носом. Хлопнуть дверью. Хоть и без малейшего шанса и пусть даже и такой ценой – приняв бремя чужого поражения. Сдавшись на милость, торгуясь, продаваясь, комкая принципы и убеждения, – обида, жажда мести покрывали и оправдывали все.
Тогдашние его письма изобиловали горечью и сарказмом, предвещали бури и катаклизмы, непременно долженствующие обрушиться на страну, так легкомысленно разбазаривавшую свое интеллектуальное достояние. Кое-где, между строк слышались, впрочем, робкие надежды на «прозрение» и триумфальное возвращение, но время шло, лихолетье все не заканчивалось, и туманные надежды потихоньку таяли. Незаметно первоначально оговоренный «годик» сменился другим, за ним – третьим. В конце концов, оптимизм и воля возобладали, беспредметное брюзжание сменилось привычным предметным практицизмом; Дзюба возглавил созданную им же лабораторию, приобрел дом, получил гражданство.
Читать дальше