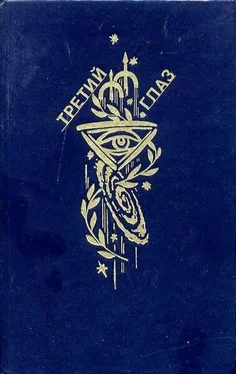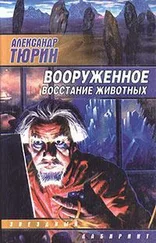(Выскоблено из светлого будущего)
Повесть
Сейчас любят целую контору запихнуть в один зал, перегороженный низенькими переборками — чтобы ощущать поддержку товарищей. И в самом деле, когда бурчит в животе у Явольского, я думаю, что это у меня.
Помощник инспектора Брусницына влетела в мой уголок, как боб с ледяной дорожки. Я здесь пытаюсь гармонию создать, а неделикатная Шарон Никитична мне горшок с фикусом повалила и чуть китайскую вазу не долбанула (такая раз в три года тебе разнаряжается). Думал, сейчас завопит, что гудок парохода, у нее всякое бывает, а она замерла, чуть подрагивая, и зашептала. Я еле разобрал:
— Антон Антонович, беда, беда, беда. Виктор Петрович танцует.
— Какая же то беда, беда, беда? Вовсе нет. Занятие это для Немоляева такое же хорошее, как и сон. Ему радость, нам покой. Может, и мы, Шарон Никитична, присоединимся, чтобы худшего не случилось. Если вы, конечно, свободны.
Не угодил. Хлопнула дверь в коридор. Никогда я этой Яге Никитичне угодить не могу. Мы со второго слова заедаться и собачиться начинаем. А тут вообще неадекватная, как говорят в поликлинике, реакция. Хотя вылезти посмотреть не помешает, мало ли что.
В коридоре плясал супервизор нашей Службы Виктор Немоляев. Не как некоторые, два притопа, три прихлопа, а с огоньком, на совесть. По носу скатывались крупные капли пота, лицо, как у космонавта при посадке в пересеченной лунной местности. А спиной-то, спиной выделывает почище африканца племени ньям. От этого сразу жутко стало. Нельзя по доброй воле и в добром здравии так выплясывать в наших почти европейских краях. Сразу почувствовался непорядок в мозгах. Будь мы как прежде по корешам, я бы что-нибудь придумал. Хвать его за талию — и переключил бы на польку-бабочку. Авось, опомнился бы. Однако мы давно уже дружбу порвали. Я накопил большой заряд отвращения, у него, наверняка, не меньше. Этот заряд, чего доброго, сейчас и шарахнет. Не хочу, чтобы выступление продолжилось на моей спине. Но если всем миром буяна скрутить, я не против. Впрочем, остальные сотрудники Немоляева дальше двери без указаний начальства не пробирались и застревали там, слипаясь своими блеклыми личиками в какие-то виноградные гроздья. Они ничего не понимали, они растерялись. Явольский, который было пошел утоптанной тропой в кабинет задумчивости, и то преодолел себя, залез обратно. Еще бы, тот, к кому можно ставить аристократическую приставку «сам», так вот, сам Немоляев, принципиальный, грамотный, преданный работе, идет сейчас, вернее, танцует против дела своей жизни. Коллеги не могут взять в толк, чему же сейчас предан Немоляев, какое теперь его дело. Одна Шарон Никитична не находится во власти коллективных эмоций, у нее эмоции отдельные, она пытается вести свою партию. В па-де-де она кружится вокруг приболевшей персоны, кудахчет, тычет в нее бумажками: вот обоснование, здесь подтверждение, там направление.
Но Виктор Петрович уже забыл, что надо карать и миловать. Прошедшее стало для него дурным сном, он понял, что вначале был жест, что телодвижение его бог. Наконец, настойчивая Шарон Никитична Брусницына чего-то добилась. Немоляев притормозил, снял со стопки ближайший документ, начал просматривать с осмысленным видом. Даже очки достал. Мне от этого не по себе. Получается, размял кабан свое сало выше и ниже пояса и за старое. К тому же, будет над чем его товарищам-супервизорам поскалиться. Но я быстро успокоился. Взял он всю стопку бумаг из Брусницыных ручонок и давай подбрасывать распоряжения и направления по одному, и пачками. Приговаривает еще: «Я тут ни при чем… А вот не мне… И это не мое». Очки свалились, каблуком растоптал и смехом неразумным заливается, словно он Лягушонок Фима или Улыбончик. Потом Виктор Петрович продолжил свое занятие. Я так залюбовался, что не заметил, как он до меня добрался. Мимо не прошел. Я дернулся, да поздно было, Немоляев мою руку схватил, тянет и бормочет: «Давай, Шнурок, с нами вместе». Зовет меня, значит, в свой неведомый ансамбль. А кличка такая за мной действительно водилась в молодечестве. Тогда, впрочем, и Немоляев другой был — его мнение порой слегка отличалось от мнения крупного начальства и он еще мог сымитировать смелый поступок. Я, наверное, не на шутку встревожился. Что-то меня сильно задело. Я выдрал руку, да еще толчком придал Немоляевской туше ускорение. Он сам говорил, что десять кило лишних есть, но скромничал — все тридцать, а сейчас улетел в стенку, как шарик от пинг-понга.
Читать дальше