Начиная с момента создания современной фантастики, выкованной руками Стругацких и Ефремова, а затем и плеядой фантастов-шестидесятников Варшавским, Громовой, Нудельманом, Полещуком, Михайловым, Альтовым и Журавлевой, Войскунским и Лукодьяновьш, Гансовским, Биленкиным (простите, если кого-то пропустил), в ней бурлила, все откровеннее, идеологическая борьба. Явление шестидесятников, как в обществе в целом, так и в литературе и искусстве, яркое и революционное, начало размываться и исчезать под гнетом "советской контрреформации". Семидесятые годы - крушение надежд и окостенение идеологических идолов. Ведь фантастика, которую творили Стругацкие и их друзья, была ужасна тем, что ставила под сомнение волю партии. Только партии в нашей действующей модели антиутопии дозволено было знать, каким будет тот самый коммунизм, к которому мы стремились. А партия, если вы внимательно прочтете литературу советской эпохи, совершенно не представляла, что это за зверь - коммунизм и что мы будем с, ним делать.
При определенном ослаблении диктата идеологических органов после XX съезда партии появились писатели нашего цеха, которые захотели сами разобраться в том, что же нас ждет.
А как только начинаешь разбираться, оказывается, что будущее невозможно изобразить одной розовой краской. Иван Ефремов честно старался заглянуть в коммунизм, победивший во всей Вселенной, и остаться оптимистом. "Туманность Андромеды" партийная критика носила на щите, но на самом-то деле - с оглядкой. И, отворачиваясь, идеолога сплевывали и воротили рожи - у Ефремова получился сомнительный оптимизм.
Затем через год-два пришли Стругацкие. И что бы они ни говорили о светлом будущем, какие бы коммунистические реалии ни старались поначалу изобразить, даже самому недалекому идеологу становилось ясно: наваливается угроза пострашнее американских опусов об атомной войне. Стругацкие писали о будущем нашей державы, на самом-то деле, по-моему, совершенно не веря в коммунизм и давая понять своим читателям, что те его не дождутся.
Недаром так скоро и безусловно Стругацкие стали кумирами младших научных сотрудников - мыслящей части нации.
До конца шестидесятых, все более стервенея, официальные критики делали вид, что ничего особенного не происходит. В это десятилетие Стругацких активно издавал не только умеренно-либеральный "Детгиз", но и "Молодая гвардия", в которой до поры до времени власть оставалась в руках Жемайтиса и его сотрудниц.
Именно ЦК ВЛКСМ и понял, как только память о хрущевской оттепели скисла и растворилась в национал-коммунистических воплях, что надо перекрыть кислород "циникам и нытикам", которые уничтожают веру в светлое будущее.
Редакцию Жемайтиса разогнали и набрали вместо старых редакторов комсомольских мальчиков, готовых на все ради карьеры: как правило, бездарных писателей, неумных интриганов, которых отличала хорошая комсомольская злоба, умение войти в роли союзников не только в ЦК комсомола, но и в Госкомиздат и главный ЦК. И там, где Стругацких не могли разоблачить и потоптать, в ход шла клевета и низкая сплетня, например, обвинение в том, что они "навели" чекистов на дом Ефремова после его смерти и стали инициаторами обыска в квартире Ивана Антоновича. Кстати, уже в наши дни стало известно, что Ефремова много лет числили в английских шпионах и "пасли" совершенно официально. Я помню, как мне "достоверно" рассказывали солидные люди, что Стругацкие уже собрали чемоданы и уезжают в Израиль - и эта сплетня использовалась в качестве оружия надежного рода: "Как можно их издавать, если всем известно, что они уже предали Родину?" С годами Стругацким становилось все труднее печататься.
Из-за попыток напечатать их повести уничтожили журналы "Ангара" и "Байкал". Но эффект, как и положено в нашей стране, был обратным. Сколько мне приходилось видеть машинописных копий их произведений!
Мое поколение фантастов я бы назвал вторым после "Стругацкого призыва". Мы опоздали всего на пять - семь лет, но первые наши рассказы были напечатаны к концу шестидесятых годов, то есть на закате оттепели. А вскоре по нам ударила волна репрессий "мягкого типа". Или ты будешь писать как положено, или не будешь печататься.
Мы были менее талантливы, чем Стругацкие, но печататься хотелось так же, и ттоэтому поколение искало паллиатива.
Мы не замахивались на мировые проблемы и судьбы цивилизации. Но при том никто из нас не воспевал коммунистические идеалы. Жили в своих экологических нишах, но не подличали. Биленкин и Михайлов осваивали космос и искали там ответы на свои вопросы. Парнов с Емцевым большей частью ограничивали себя миром науки. Роман Подольный иронично шутил, Ларионова, Мирер и Шефнер решали моральные проблемы... Конечно, я упрощаю - все писатели второго поколения были сложнее, чем можно сказать в одной фразе. Но при том локальнее, чем их предшественники.
Читать дальше

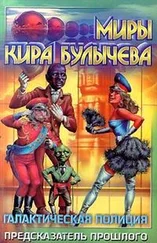
![Кир Булычев - Второе пришествие Золушки [Падчерица эпохи]](/books/31344/kir-bulychev-vtoroe-prishestvie-zolushki-padcherica-e-thumb.webp)
![Кир Булычев - Можно попросить Нину [Телефонный разговор]](/books/33856/kir-bulychev-mozhno-poprosit-ninu-telefonnyj-razgo-thumb.webp)
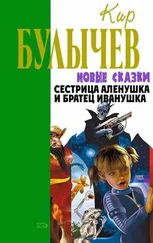
![Кир Булычев - Уважаемая редакция! [Кирпичный завод]](/books/42109/kir-bulychev-uvazhaemaya-redakciya-kirpichnyj-zavod-thumb.webp)
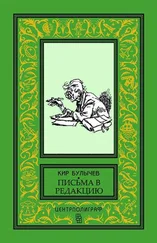
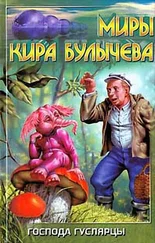
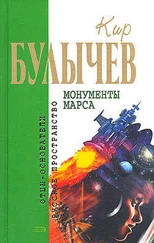
![Кир Булычев - Детская библиотека. Том 42 [Кир Булычев]](/books/401005/kir-bulychev-detskaya-biblioteka-tom-42-kir-bulyche-thumb.webp)