Пошел, задрыга… Хлебом не корми, дай погибнуть покрасивее. Ведь нарочно свернет направо. По мелкой гнусности характера. А грех на мне повиснет.
Юнкер! Да постой ты, не мальчик я — с тобой в догонялки играть! Обиделся, что ли? Да ладно, не кисейный. Пошли-ка под навес, а то солнце шпарит в глаза, нет мочи… Ветрено будет завтра, закат красный.
Садись, обмоем встречу. На крепенькое не хватит, будем тянуть сельтерскую водичку, как старые аббатисы.
Ты ведь новичок, ничего про нас не знаешь… Впрочем, мы порядок блюдем, о чем не следует не горланим с крыши.
Да не торопи ты, не понукай! Я, может, на себе крест ставлю, из-за тебя, сукина сына, проговариваюсь, все свои принципы душy! А он меня пинками подгоняет, как на виселицу… Я об этом даже в исповедальне молчу. Краснею, губы жую, а как рыба-налим — ни гу-гу!
Дневная Логрия, это, брат, одно. Все по полочкам, по ранжиру, грудь колесом, «ура» да «вперед».
Император сверху, мы с исподу. Страна огромная, девять провинций, колонии за морем, народу — не продохнуть, а все молчат хором, никто не признает, что мы как карточный валет… от пояса растет второе лицо.
Ночное лицо, глумливое, страшное. Раньше Логрия была целой, а теперь раскололась, как грецкий орех, на две половинки. Ночной стражи у нас нет, собаки и те, как закат, скребутся в двери, просятся в дом со двора. Нам не принадлежат ночи. А все почему? Мы прогневили Бога. Оказывается, он и за равнодушие карает. Всякий сам за себя и Бог, выходит, за всех быть не хочет… Всякий свой адок свил, как гнездо. Любовь, обиды, ропот, жалость, правду — загнали в футляры, нарумянили, как покойника, залепили грязными шуточками. Нам все нипочем, мы силачи, общественную пользу творим, вон какие люди с нами здороваются за ручку! На любую просьбу отвечаем… «А что мне за это будет?»
А сами нет-нет, да и глянем на солнце. Ползет, стерва, к западу, сейчас потухнет, и мы пойдем засовами лязгать. Потому что наступает время наших грехов. Все Семеро там бродят, хихикают, а Восьмой, какого и в Библии не упоминают, тот грех — молчит.
Ночная Логрия шуршит за стенами, липнет на стекла, просачивается сквозь обои. Кто высунется — погиб.
Когда у нас ночь, у них, юнкер, самый что ни на есть светлый день. У кого «у них»? Ах, ты, мать еловая! Дай из кружки выловлю муху и все растолкую.
В году, значит, 1714, исполнилось мне четырнадцать лет. Маму не помню, отец копал колодцы. А детей с нашей улицы воспитывал приходский поп, молодой был поп, чудной, учил нас грамоте, бывало, рясу задравши, ловил бреднем лягушек нам на потеху, и про звезды рассказывал. Хорошего понемножку, вот и свезли нашего попа в казенной кибитке, чтоб не дурил, и разбрелись мы кто куда.
Отец устроил меня к бабке-лекарке, за три кварты в день, я собирал для нее вонючие травки, ей, понимаешь, надо было, чтобы сбор производился невинным дитем, иначе толку от целительства — пшик.
Набродился я тогда по общинному лесу. Попотеешь, пока найдешь нужное, издерешься в орешнике, ботинок в бочажине утопишь, но ничего, насобачился. Правда, как солнце ослабнет, ноги в руки — и в город.
Деньжата получу, отдам отцу, и на боковую.
Да кому нас было учить предосторожности, парень? Скажем, жеребенок родился и уже встал на ножки, без всякой науки, так и мы с пеленок затвердили — где ночь, там гибель.
Но в Петров День мне не повезло. Почти ничего не набрал, а что нашел — потерял. На городском лугу напали на меня собаки, когда отбился, остались от целебных трав одни ошметки. Старуха меня выставила за порог. «Бездельникам, — шамкает, — деньги во сне снятся!» Выжига, у самой десяток платьев и выезд — четверик. Дураков лечиться было много.
Плетусь домой, ноги не несут, в животе прохладная панихида. И не зря.
Папаша сидит за столом, трезвый и томный и давит тараканов мизинцем… «Деньги давай!»
Что поделать — повинился. Тут началось… Шахсей-вахсей, турецкий праздник. Колошматил меня старик от души, сил не жалел. Надорвал мне левое ухо, аж повисло, как у таксы, а кровищи… Я заревел — и за порог.
Тут до родителя дошло, что на вечерю уже звонили, и за окнами синева. Он выскочил следом, зовет, да как же!
Я и не заметил, как вынесло меня из города на луга, через Кожемятный мост и далее на просечную гарь.
Там, в брусничнике, я свернулся клубком, все мхам и перегною отдал — и слезы, и сопли, и кровь.
А как в себя пришел — и креститься не могу… Вокруг бархатная темнота, лишь на западе остывают алые полосы. Веришь ли, юнкер, мне было и жутко и сладко… небо полноводное, все в огнях, не то, что ползвездочки сквозь оконную чекушку.
Читать дальше
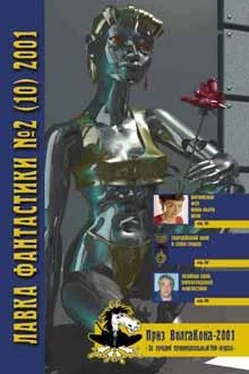

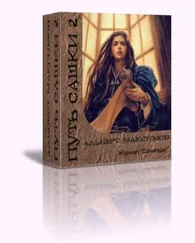

![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)

