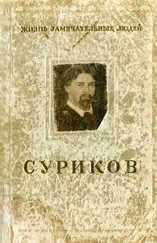Теперь большие изумленные глаза Анюты смотрели уже не на картины, а на меня, будто я имел прямое отношение к удивительному феномену великого искусства. Ведь я тоже был художником и принадлежал к тому же цеху. Ведь я тоже подолгу стоял с кистью у холста. Ведь я тоже... Нет, у меня не хватало мужества сказать Анюте, какая пропасть отделяет меня от каждого художника, представленного в этих залах, и какая пропасть отделяет даже их от Рембрандта, этого бога, изведавшего горе и нищету.
До поры до времени я должен молчать и не говорить о тех надеждах, которые я возлагаю на пока еще малосильную свою кисть.
Прежде чем совсем уйти из Эрмитажа, мы направились в буфет. Я повел туда Анюту совсем не потому, что мне хотелось есть. Эрмитажный буфет отделял и соединял мир духа и мир повседневности с ее привычной суетой. Правда, здесь пахло сосисками и тушеной капустой, но величие стен еще напоминало об истории, от которой не спешили отделиться мои и Анютины чувства.
О чем же мы говорили с Анютой в этот раз? О том о сем, ища в бездумной словесной игре убежище от странной мысли, что нам удалось побывать в другом измерении, поэзию которого пыталась разрушить молоденькая экскурсовод, объясняя необъяснимое с наивной уверенностью, что чудес не бывает не только в жизни, но и в искусстве тоже.
6
Но не пора ли вернуться на заседание месткома, куда я был вызван долго не умолкавшим и изрядно надоевшим телефонным звонком?
Телефон надрывался, но ни я, ни Иван Иванович Смирнов не спешили на его зов. Смирнов был занят своим букетиком, а я-улыбкой Анюты, которая, несмотря на все мои старания, не хотела играть на ее лице, оставшемся подобием на холсте, подобием, очень далеким от того, что сопротивлялось уподоблению.
Я долго не мог освободиться от своих чувств, охотившихся за образом девушки, которой впоследствии суждено было стать моей женой, но телефон был настойчив, он отозвал меня от мечты и вызвал в действительность.
Я быстро надел старенькое пальто и кепку и побежал, вспоминая на ходу о своих месткомовских обязанностях. Обязанности у меня были довольно элементарные и не очень-то соответствующие моему характеру- напоминать злостным неплательщикам, что надо погасить свою задолженность.
Я предпочитал это делать издали, укрывшись за стенами своей мастерской и выкрикивая в телефонную трубку слова, которые пугали меня самого куда больше, чем должников, напоминая мне, что сам-то я всегда был в долгу, и больше всего перед своим призванием художника.
Я обратил внимание: на заседаниях месткома время текло иначе, чем дома или в мастерской. Дома оно старалось не напоминать о себе, куда-то исчезая, здесь оно текло медленнее, нагляднее и ощутимее, превращаясь в совсем особую реальность, вдруг заговорившую на том языке, на котором писался протокол.
Художники оставались художниками и на заседаниях. Каждый что-нибудь рисовал на клочке бумаги, не исключая самого председателя месткома Панкратова, который был злым и остроумным сатириком, мастером так называемого дружеского шаржа, и между делом рисовал нас, стараясь своим наблюдательным карандашом выявить на свет божий все смешное и нелепое, чем щедро награждает природа чуть ли не каждого смертного. Под его карандашом (как, наверное, он воображал) я становился сам собой, воплощаясь в этакого ультрасовременного, давно не бритого и не мытого хлыща, кокетничающего своим неряшеством и воображающего, что длинные волосы и непозволительно узкие брючки помогут мне и всем со мною схожим проникнуть в святая святых искусства, почему-то всегда снисходительно относящегося к легкомысленным шалопаям; ведь даже Пушкин осудил солидно-серьезного Сальери и противопоставил ему праздного гуляку Моцарта. Сам Панкратов принадлежал к породе солидно-серьезных.
В карандаше Панкратова было нечто магически-телепатическое, и каждый раз, взглянув на свое изображение, я мысленно уносил его, чувствуя его власть над собой, словно карандаш нашего сатирика навсегда определил меня, не слишком щедро оценив мою натуру.
Карандаш и рука рассеянно гуляли по бумаге, пока обсуждались привычные вопросы, но вдруг в повестку дня вторглось нечто не совсем привычное. Какой-то аноним прислал заявление, в котором обвинял художницу Андрееву в систематических попытках обмануть государство и, выдавая себя за больную, получать по бюллетеню, этому святому документу, подписанному честной, "но введенной в обман рукой участкового врача.
Читать дальше