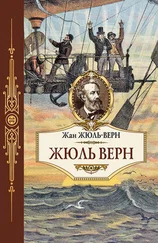Мишель внимательно разглядывал своего собеседника: уж не насмехается ли тот над ним? Удивительно серьезное лицо счетовода исключало подобное предположение.
— Я — в вашем распоряжении, — проговорил молодой человек.
— А я — в вашем, — сказал копировщик.
— Что я должен делать?
— Просто медленно и четко диктовать мне все статьи текущих записей, которые я заношу в Большую Книгу! Не ошибайтесь! Соблюдайте правильную интонацию! И, пожалуйста, погромче! Одна помарка, и меня выставят за дверь!
Других указаний не последовало, и они приступили к работе.
Хотя Кэнсоннасу исполнилось всего лишь тридцать, но вид его был столь серьезен, что выглядел он на все сорок. Однако, если приглядеться повнимательней, под этой отпугивающей своей строгостью маской в конце концов можно было обнаружить неподдельную жизнерадостность и поистине дьявольское остроумие. На третий день Мишелю показалось, что именно эти черты он разгадал в своем новом наставнике.
Тем не менее в конторе у счетовода прочно утвердилась репутация простачка, если не сказать больше — дурачка. О нем рассказывали истории, перед которыми тускнели все Калино [41] Калино — главный персонаж водевиля, шедшего с большим успехом на парижской сцене в 1856 году; этот простоватый, наивный театральный герой вошел в пословицу.
былых времен! Но он обладал двумя неоспоримыми достоинствами: отменным почерком и аккуратностью. У него не было равных в письме как крупным, так и мелким курсивом.
Он был настолько аккуратен, что требовать большего вряд ли было возможно, и хотя тупость его стала притчей во языцех, он тем не менее сумел избежать двух неприятных для любого клерка повинностей: обязанности заседать в суде и служить в Национальной гвардии. Оба эти института еще действовали Божьей милостью в 1960 году.
Вот при каких обстоятельствах Кэнсоннас был вычеркнут из числа судей и списков военнообязанных.
Примерно год тому назад Кэнсоннас волею судьбы оказался в числе присяжных заседателей. Вот уже больше недели в суде слушалось очень серьезное, а главное, длинное уголовное дело. Его наверняка закрыли бы после допроса последних свидетелей, если бы не Кэнсоннас. Во время заседания он вдруг встал и попросил у председателя разрешения задать обвиняемому вопрос. Просьба была уважена, и подсудимый ответил своему присяжному.
— Ну вот, — громогласно заявил Кэнсоннас, — теперь очевидно, что обвиняемый не виновен.
Можете себе представить, что тут началось! Присяжным запрещалось высказывать частное мнение в ходе судебного разбирательства, иначе решение судей считалось недействительным. Подобная оплошность Кэнсоннаса заставила отложить дело до нового слушания. И все пришлось начинать сначала! А поскольку неисправимый присяжный невольно или же по простоте душевной все время впадал в одну и ту же ошибку, то ни одно дело не могло завершиться!
В чем можно было упрекнуть незадачливого Кэнсоннаса? Очевидно, что, возбужденный судебными дебатами, он начинал говорить помимо собственной воли: слова сами слетали с его губ! Все это напоминало врожденное увечье, но так как машина правосудия не могла вот так, враз, застопориться, то Кэнсоннаса навсегда исключили из списков присяжных.
С Национальной гвардией произошла другая история.
С первого раза, когда он заступил на пост у дверей мэрии, он всерьез проникся своим воинским долгом. В боевой готовности он встал перед будкой часового: ружье заряжено, палец на спусковом крючке. Он был исполнен решимости открыть огонь: ему казалось, будто враг засел на соседней улице и вот-вот начнет наступление. Разумеется, столь рьяный часовой стал привлекать к себе внимание прохожих, вокруг него собралась толпа, кое-кто добродушно улыбался. Это не понравилось свирепому национальному гвардейцу. Сначала он взял под стражу одного прохожего, потом другого, третьего, а в конце его двухчасового дежурства весь участок уже кишел арестованными. Теперь это уже походило на бунт.
В чем можно было обвинить Кэнсоннаса? Он имел полное право так поступить, ибо счел себя оскорбленным при исполнении служебных обязанностей! А он испытывал поистине священный трепет перед знаменем. История повторилась и на следующем дежурстве. И поскольку не удалось умерить ни его пыл, ни его чувство собственного достоинства, впрочем весьма похвальное, то сочли за благо исключить его из воинских списков.
В общем, Кэнсоннас прослыл дурачком, но таким образом он отделался и от заседаний в суде присяжных, и от службы в Национальной гвардии.
Читать дальше
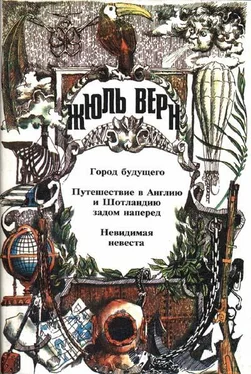




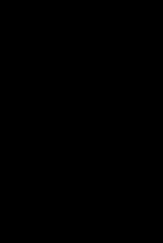


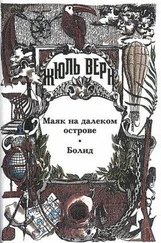
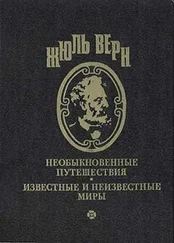
![Жюль Верн - Приключения троих русских и троих англичан. Плавающий город. Священник в 1839 году - [романы]](/books/409131/zhyul-vern-priklyucheniya-troih-russkih-i-troih-anglich-thumb.webp)
![Жюль Верн - Приключения троих русских и троих англичан. Плавающий город. Священник в 1839 году [без илл.]](/books/410578/zhyul-vern-priklyucheniya-troih-russkih-i-troih-anglich-thumb.webp)