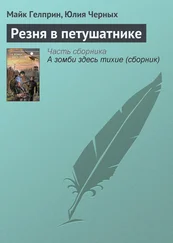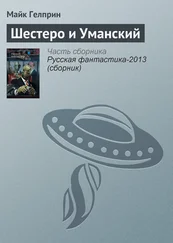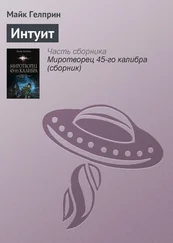Майк Гелприн
Однажды в Беэр-Шеве
Рыжий Фишел, внук старого шойхета Ицхака, прибежал, едва я открыл лавку.
– Шолом, дядя Эфраим, – поздоровался Фишел, не успев даже отдышаться. – Ой, дядя Эфраим, к тебе там из самого Йерушалайма приехали.
Сначала я подумал, что приехала Гита, и обрадовался, и хотел немедленно бежать ей навстречу, моей младшенькой, ягодке моей. Но потом сообразил, что Гита приедет только на рош-ходеш, первый день месяца адар. И огорчился, и едва не расплакался, потому что до рош-ходеша оставалось еще три дня, мне ли о том не знать, когда каждое утро я дни эти считал. Так я рыжему внуку старого Ицхака и сказал.
– Не расстраивайся, дядя Эфраим, – утешил меня Фишел, – Гита обязательно приедет, уже скоро. А пока ребе Нахум велел передать, чтобы ты надел талит-катан с цицесами и сменил ермолку на штраймл. Те, которые приехали, будут брать у тебя интервью.
Возможно, я когда-то знал, что такое интервью, но потом забыл, как и множество других слов, за ненадобностью. Поэтому я не стал ни огорчаться, ни радоваться, а прошел из лавки в дом и сменил будничную капоту на нарядный талит-катан с цицесами, как велел ребе Нахум. Надел вместо ермолки штраймл из соболиных хвостов, оставшийся мне от отца, с тем и вышел из дома.
Оказалось, что интервью – это когда бородатый ашкенази мелет про тебя всякий халомот, а безбородый сефард смотрит в такую штуковину, похожую на лошадиную подкову, только квадратную и со стеклом там, где у подковы дырка. Возможно, я когда-то знал, как эта штуковина называется, но за ненадобностью забыл.
– А сейчас перед вами, – затараторил бородатый, – почтенный Эфраим Гаон, человек, который считает себя самым счастливым евреем во всей Беэр-Шеве.
Хотел я сказать, что он глупец и счастье считать невозможно, но не успел: только рот разинул, как бородатый этот меня спрашивает:
– Любите ли вы свою семью, господин Гаон?
Видит Б-г, среди евреев тоже встречаются глупцы, что бы ни говорил на этот счет ребе Нахум. Какой же еврей не любит свою семью больше всего на свете после Б-га? Так я ему, этому бородачу из Йерушалайма, и сказал.
– У вас ведь жена, двое сыновей и дочь, господин Гаон? Вы их всех одинаково любите?
Б-г свидетель, не помню, когда слыхал настолько глупый вопрос. Измерять любовь – это все равно что считать счастье. Как я могу любить Голду больше или меньше, чем детей, которых она мне родила? Или Гершэлэ больше, чем Якова? Или Якова больше, чем Гиту? Так я ему, глупцу, и сказал.
Потом он еще много всего спрашивал: и про торговлю, и не скучно ли мне в лавке, и что Голда готовит на Рош-Хашану, и исправно ли мы постимся на Йом-Киппур. Я уже и отвечать устал. А второй, безбородый, все со своей подковой цацкался, то так в нее заглянет, то эдак, то присядет с ней, то отбежит…
Б-г не даст соврать, ничего в нем хорошего нет, в интервью, разве что хорошо, когда оно кончается. Это интервью, однако, и закончить хорошо не сумели.
– А правда ли, господин Гаон, – бородатый ашкенази спросил напоследок, – что вы ненавидите шаббат и не ходите по субботам в синагогу?
Я его сразу ударил, не думая. По лицу, так, что он свалился прямиком в пыль и заблеял словно овца, которую шойхет режет на Пейсах. Это наверняка лысый Барух, сойфер при синагоге, подговорил спросить про шаббат. Барух сватался к Голде еще до меня, но старый Танхум, Голдин отец, ему отказал. В Беэр-Шеве всякий знает, что чужим нельзя меня про шаббат спрашивать и напоминать даже нельзя. И если кто чужой спросит, то я теряю разум, и память теряю, и становлюсь настоящим мешуга, и тогда один Б-г ведает, что могу натворить.
Дальше ничего не помню, кроме того, что прибежали соседи и доктор Леви все кричал, чтобы меня держали. Пришел в себя я лишь за столом, в доме, и Голда сидела напротив и подавала мне блюдо с кнейделах. И тогда я устыдился, и разломал халу, и оделил жену мою и каждого из сыновей, а потом разлил вино и прочитал брахот – молитву, положенную перед едой. Мы поели, и я отправил Гершэлэ запирать лавку, а Якова отослал в детскую и наказал спать.
Мы остались с Голдой вдвоем, и, пока она хлопотала на кухне, я смотрел на нее. Я смотрел, и прошлое плясало у меня перед глазами праздничной Хава-Нагилой. Той, что мы отплясывали с Голдой в день свадьбы, и пятьсот человек родни и соседей завидовали мне, потому что ночью мне предстояло лечь с самой красивой девушкой квартала Вав-Хадаш, а может быть, и всей Беэр-Шевы.
Она ничуть не изменилась, моя Голда, даже родив мне троих детей. Осталась такой же стройной и ясноглазой. С тонкими бровями вразлет и шелковыми каштановыми локонами до плеч.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу