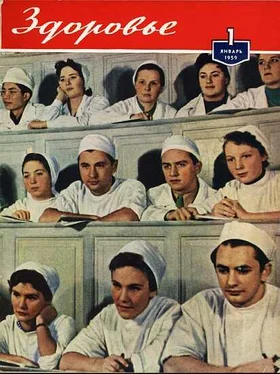Мочутковский застал его делающим какие-то пометки в записной книжке. Теперь Минх мог убедиться, что его молодой друг, пожалуй, не так уж худо разбирается в болезнях. Во всяком случае, возвратный тиф он распознал без особого труда, а против его назначений едва ли возразил бы и сам Боткин. Но Минх возражал, он вообще не хотел лечиться: болезнь должна идти своим обычным ходом, иначе ему не удастся твердо установить, что это действительно тиф.
Трижды за три недели погружался он в горячую мглу и последний раз едва не остался там навсегда. Но догадка о первостепенном значении крови в передаче тифа получила первое экспериментальное подтверждение. Теперь можно было подумать и о разносчиках болезни. Чтобы круг замкнулся, следовало выяснить, что в природе играет роль стеклянного капилляра. Минх не раз заходил в портовые ночлежки, и, конечно, не ему было сомневаться в истинных виновниках тифозных эпидемии. Но он был осторожен с выводами, ибо хорошо знал, что в науке всегда легче указать, чем доказать. Он не спешил высказать свои соображения еще и потому, что не мог не понимать, как далеко ушли они от общепринятых взглядов. И он ждал, ведь ожидание и сомнение — постоянные спутники настоящего исследователя. Столь велика была взыскательность этого человека к научной истине, что, стоя на пороге выдающегося открытия, он имел мужество четыре года не обмолвиться ни словом. Слюну, мочу, — все, что можно добыть у больных людей, испробовал он со своими товарищами для заражения. Но никто из них не заболел. Казалось, сомнений нет: кровь владеет монополией на тиф. Но Минх ждал новых подтверждений. И лишь когда Мочутковскому после пяти неудачных попыток удалось, наконец, точно так же привить себе сыпной тиф, он решился во всеуслышание заявить о роли кровососущих насекомых в передаче этих заболеваний.
На худой конец он предполагал, что вызовет насмешливые улыбки недоверчивых коллег, ему даже хотелось слышать их возражения, спорить, доказывать свою правоту. Но случилось худшее из того, что он ожидал. Открытие осталось незамеченным, оно было лишь счастливым прозрением в будущее науки о микробах. И только спустя тридцать с лишним лет, уже в начале нашего века, когда были разоблачены малярийные комары, чумные блохи, француз Николль блестящими экспериментами подтвердил великое значение открытия русских врачей.
Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор А. И. Струков
Рисунки Н. Гришина
Инженер К. М. Медведев (Новосибирск) пишет в редакцию: «Мне приходилось читать в книгах и журналах всякого рода высказывания о будущем человеке. Не только авторы научно-фантастических романов, но и некоторые ученые представляют себе будущего человека в образе физически слабого, беззубого существа с коротким туловищем и огромной головой.
Прошу осветить этот вопрос с позиций современной научи».
Редакция обратилась к члену-корреспонденту Академии медицинских наук СССР профессору А. И. Струкову с просьбой ответить нашему читателю.
Если 100 лет назад Ч. Дарвин мог жаловаться на неполноту научных данных по истории животного мира, то теперь наука располагает богатейшими материалами о прошлом и настоящем человека, позволяющими заглянуть до известной степени и в его будущее.
В последние годы в нашей стране и за рубежом издано немало книг, посвященных этой научной проблеме, волнующей широкие круги читателей. Одним из последних научных трудов на эту тему является книга профессора А. П. Быстрова «Прошлое, настоящее, будущее человека», изданная Государственным издательством медицинской литературы.
Автор освещает прошлое, настоящее и будущее человека на основании изучения — историй человеческого скелета. Разумеется, одних этих данных недостаточно, чтобы судить об истории развития всего организма человека, но они дают общее представление о ходе его долгой эволюции.
«Настоящее» человека, с точки зрения морфолога, начинается с того периода, когда труд создал на Земле Homo sapiens (Человека разумного), то есть около 50 тысяч лет назад. История человеческого скелета показывает, что за это время существенных изменений, за исключением возникновения расовых вариантов, в строении человека не произошло.
Но как могут отразиться предстоящие столетия на анатомическом строении наших далеких потомков?
Изучая отдельные части скелета человека, анатомы пытаются предсказать, какую форму, по — их мнению, примет изучаемая часть в далеком будущем.
Читать дальше